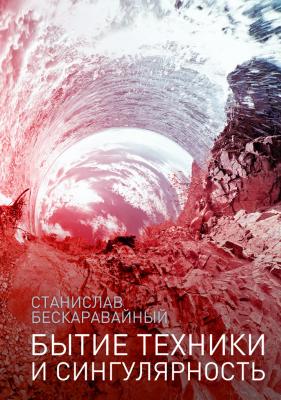Бытие техники и сингулярность. Станислав Сергеевич Бескаравайный
Читать онлайн.| Название | Бытие техники и сингулярность |
|---|---|
| Автор произведения | Станислав Сергеевич Бескаравайный |
| Жанр | Прочая образовательная литература |
| Серия | FUTURIS |
| Издательство | Прочая образовательная литература |
| Год выпуска | 2018 |
| isbn | 978-5-386-10386-6 |
Такую цель и смысл в определении техники предложил М. Хайдеггер: «…техника не просто средство. Техника – вид раскрытия потаенного» [244]. Потаенность – то, что скрыто от внешнего взгляда; потаенность схожа с потенциальными возможностями, которые позволяет реализовать техника, но не сводится к ним. Потаенность может раскрываться не только человеком. Хотя и этот подход имеет определенные изъяны: ведь раскрытие потаенности – лишь один из аспектов техники, и человеку, который много лет пользуется консервным ножом, нет нужды открывать потаенность с его помощью, надо просто вскрыть банку. Точно так же можно сказать, что техника – средство для увеличения энтропии. Но все же ценно в подходе М. Хайдеггера то, что он сумел выйти за рамки абстрактного определения бытия техники.
Но как же тогда отделить техническое от человеческого, тем более, как провести эту границу внутри самого человека? Ю. Хабермас на основе гегелевской диалектики попытался разделить интеракцию и труд. Первая – это взаимодействие между людьми, «акции обособленных и самодостаточных субъектов» [241, с. 21]. Второй «специфический способ удовлетворения инстинктов, который выделяет существующий дух из природы» [241, с. 25], «разрушает диктат непосредственных вожделений и словно приручает процесс удовлетворения побуждений» [241, с. 26]. Но хотя сведение интеракции к труду невозможно, они остаются чрезвычайно зависимыми друг от друга, что проявляется в связи между нормами права и процессами труда [241, с. 34].
Разделение, проведенное Ю. Хабермасом, однако, исключает из объема понятия «труд» любую умственную работу при взаимодействии субъектов, ее необходимо объявить интеракцией. То есть обучение, политическая борьба или театральное представление уже не труд (что, очевидно, не верно).
Компьютерная революция привнесла в философию не просто идею перманентного прогресса, но идею опережающего прогресса, когда машина развивается быстрее человека и будет познавать мир полнее, чем homo sapiens. Но если антропоцентризм столкнулся с необходимостью ограждать человека от феномена прогресса (и, соответственно, ограничивать понимание техники, сводя ее к предметно-орудийной деятельности), то технократизм получил даже две проблемы: а) что породит технический прогресс при своем дальнейшем развитии; б) что ограничивает человека в рамках технического прогресса.
Список требований к технике, которая бы стала осмысливать окружающий мир (и тем приближалась к человеку), был во многом сформулирован еще в конце 70-х [246].
Проблема туманности перспектив развития в итоге оказалась решена превращением нужды в добродетель – созданием концепции «технологической сингулярности»: компьютеры неизбежно обретут свойства самоорганизации, будет создан искусственный интеллект. В результате новые субъекты познания будут обладать такими возможностями и скорость развития техники повысится настолько, что сейчас спрогнозировать их действия