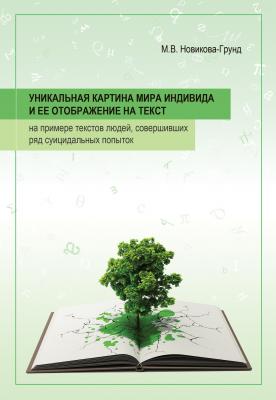Уникальная картина мира индивида и ее отображение на тексты: на примере текстов людей, совершивших ряд суицидальных попыток. Марина Новикова-Грунд
Читать онлайн.| Название | Уникальная картина мира индивида и ее отображение на тексты: на примере текстов людей, совершивших ряд суицидальных попыток |
|---|---|
| Автор произведения | Марина Новикова-Грунд |
| Жанр | Социальная психология |
| Серия | |
| Издательство | Социальная психология |
| Год выпуска | 2014 |
| isbn | 978-5-91914-014-6 |
3.3. Сюжетные сходства.
Группы, которые можно объединить по сходству, образовались в первую очередь среди сюжетов.
Наиболее частотная сюжетная схема была представлена структурой запрет – нарушение запрета – наказание. Для удобства мы так и назвали этот сюжет: «Преступление и наказание». 69 % участников[5] (244 человека) построили сюжеты по этой структуре, причем чаще всего в них повторялась ситуация «падение, боль, болезнь». Маргиналиями в этом случае выступили тексты, в которых присутствовали фрагменты вышеуказанного сюжета (например, «нарушение запрета» – без «наказания») либо ситуация «падение, боль, болезнь», не связанная с сюжетом «преступления и наказания». Между текстами истинных воспоминаний оказалось так много общего, а отличия их от текстов псевдовоспоминаний были столь регулярны, что это позволило сформулировать несколько принципиальных тезисов.
Общая структура сюжета «Преступление и наказание» состоит из запрета – нарушения запрета – и наказания (или счастливого избежания наказания). Например: папа не велел мне заглядывать в птичье гнездо – я заглянула – птичка улетела, оставив невысиженные яйца; мне не разрешали есть конфеты – я съела много конфет – я не заболела, и меня особенно не ругали; драться с девочками дурно – я подрался – мне было так стыдно, что я 2 дня не выходил гулять…Запрет мог быть выражен эксплицитно (папа не велел мне), – и подразумеваться (драться …дурно), мог касаться конкретной ситуации и общих этических принципов, но он непременно присутствовал, иногда обнаруживая себя лишь последующим наказанием (я упал, ушибся, порвал штанишки – и тут я понял, что нельзя было обижать другого мальчика). Наказание оказывается двух типов: исходящее от запрещающих старших (ругали, папа только молча посмотрел) – и исходящее от «надчеловеческого взрослого» (мама очень испугалась, и ей стало плохо; я упала, расшибла нос и испачкала красивое платье). Вообще мотив падения и /или болезни
Здесь уместно напомнить удивительные находки Р. Якобсона, связанные с метафорой и метонимией. Якобсоновские «метонимисты» – обычные люди, поэты, афатики – отдают предпочтения «связям по смежности», «метафористы» же тяготеют к «связям по сходству». На мой взгляд, спонтанный устный текст принадлежит к якобсоновскому «метонимическому полюсу», так как порождается как отклик на слово, обстоятельство, событие. Письменный же текст, даже если он спонтанен, утверждает символическое сходство: он является саморепрезентацией породившего его автора, то есть своего рода «расширением имени».
Необходимо подчеркнуть, что приводимые здесь и далее процентные соотношения нельзя рассматривать как некую статистическую информацию. Они являются не более, чем иллюстрацией, и призваны синонимически заменить слова «часто» и «редко». Сейчас, к моменту завершения этой работы, в нашем распоряжении находится уже более 3000 обработанных текстов ТМ, и можно видеть, как от группы к группе процент предпочитающих тот или иной сюжет изменяется, правда, незначительно, в ту или другую сторону. Однако количественные данные никак не участвуют в дальнейших рассуждениях, не будут учитываться при интерпретации результатов или использоваться в какой бы то ни было аргументации.