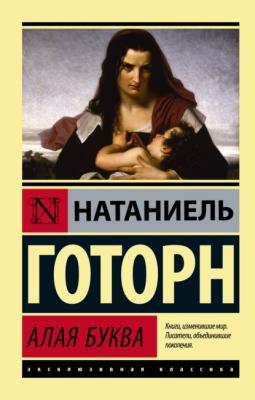насколько могу судить, с должностью своей справлялся как следует. Человек, наделенный мыслительными способностями, фантазией и чувствами, даже в десятикратном размере по сравнению с тем, что имеет инспектор, всегда может стать деловым человеком, стоит лишь захотеть. Мои коллеги, а также торговцы и капитаны судов, в общение с которыми я вступал по долгу службы, только в этом качестве меня и рассматривали, по-видимому, понятия не имея о другой стороне моей личности. Подозреваю, что никто из них не прочел и страницы моих сочинений, а если бы даже прочел их все, то это ничуть не поколебало бы их отношения – ни на дюйм не вырос бы я в их глазах; да и будь написанное мною сочинено Бернсом или Чосером – оба они в свое время тоже отдали дань таможенной и налоговой службе, – даже это ничего бы не изменило. Хороший, хотя, может быть, и жестокий урок для человека, мечтающего о литературной славе, о том, чтоб с помощью литературных трудов своих занять достойное место среди людей, пользующихся почетом, вдруг выпасть из тесного круга тех, кому уже известно его имя, круга, где он завоевал признание, и понять, насколько ничтожно все, что он делает и чего достиг, и как мало значит он со всеми своими устремлениями вне тесного своего круга. Не то чтобы я так уж нуждался в подобном уроке в качестве укоризны или предостережения, во всяком случае, усвоил этот урок я вполне, но мне приятно сознавать, что, открыв для себя эту истину, я не испытывал горестных сожалений и не пытался со вздохом отринуть ее. Что же касается литературных бесед, то для них был там один морской офицер, отличный, надо сказать, парень, поступивший на таможенную службу одновременно со мной, а оставивший ее чуть позже; он любил втянуть меня в обсуждение одной из двух излюбленных его тем – Наполеон и Шекспир.
Всегда под боком находился еще и мелкий клерк – молодой джентльмен, о котором поговаривали, что ему случалось заполнять листы гербовой бумаги Дяди Сэма чем-то, что на расстоянии в несколько ярдов было похоже на стихи. Юноша этот время от времени затевал со мной разговоры о книгах, полагая, видимо, что предмет этот я, возможно, сочту достойным обсуждения. Других высокоученых бесед я не вел и в большем нужды не испытывал.
Не заботясь более, чтобы имя мое, значась на книжных титулах, разносилось по всему миру, я с улыбкой относился к тому, что становилось оно известно иным образом: наш таможенный штамповщик, заполняя черной краской трафарет, оттискивал его на мешках с перцем, на корзинах с плодами аннато, на ящиках сигар и на тюках со всевозможными товарами в знак того, что положенный сбор уплачен и товар прошел таможенную проверку. Несомая столь причудливой колесницей славы, весть обо мне проникала туда, где имени моего и слыхом не слыхивали раньше и где, надо надеяться, не услышат и потом.
Но прошлое не умерло. Изредка мысли, ранее казавшиеся столь важными и своевременными, а теперь мирно спавшие где-то под спудом, оживали и поднимали голову. Одним из самых знаменательных случаев, когда привычки прежних дней вновь пробудились во мне, был тот, что заставил меня, как приличествует