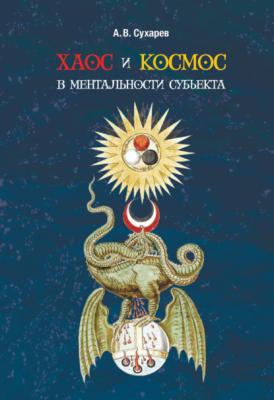Хаос и космос в ментальности субъекта. А. В. Сухарев
Читать онлайн.| Название | Хаос и космос в ментальности субъекта |
|---|---|
| Автор произведения | А. В. Сухарев |
| Жанр | Философия |
| Серия | |
| Издательство | Философия |
| Год выпуска | 2019 |
| isbn | 978-5-89353-548-8 |
В начале XX в. в художественном творчестве, как в литературе, так и в живописи, в частности, – экспрессионизме и взглядах Эмиля Нольде, в воззрениях и творчестве Пауля Клее, возродилось представление о хаосе как самопорождающей креативной среде.
Постмодернизм есть «эстетика хаоса» – мир как бы вновь скатывается к началу времен, демонстрируя поражение современной цивилизации, стремившейся создать искусственный порядок, но спровоцировавшей энтропию. Однако возвращение к первозданному хаосу, согласно Стеценко, содержит в себе конструктивный потенциал, поскольку, как показала судьба Земли и человечества, он животворен. В хаосе предполагается заложенная способность к самоорганизации и структурированию нового порядка. Разрушительный пафос постмодернизма, полагает исследовательница, взаимосвязан с антиэнтропийными тенденциями, которые она видит в феномене глобализации, создании единого экономического и культурно-информационного пространства. Постмодернизм способен к эволюции, самоотрицанию, преобразованию своей фрагментарности в специфические формы целостности. Иначе говоря, согласно автору, хаос – это естественное состояние мира, в хаосе постмодернизма уже заложен потенциал развития (Стеценко, 2009). Данная оценка постмодернизма, на наш взгляд, имеет эмоционально-оценочный, кататимный характер вследствие амбивалентного эстетического отношения к миру – «чем хуже, тем лучше».
Конструктивный, хотя и весьма неопределенный потенциал «хаотизации» культуры в создания новой целостности отмечается многими исследователями. В частности, Н. Н. Моисеев объясняет нарастание хаоса постмодернизма усложнением дестабилизирующихся систем, которое скрывает потенциал развития (Моисеев, 1991, с. 10). В связи с этим Г. Г. Дилигенский отмечает, что «в дальнейшем можно ожидать смены техногенной цивилизации антропогенной, в которой гедонистическое общество потребления перейдет в общество универсального „творческого гуманизма“» (Дилигенский, 1991, с. 38) (курсив наш – А. С.). Вера в конструктивное будущее звучит и в итоге анализа потенциала эпохи постмодернизма: «Новая этика будет основана на знании, где представление о взаимосвязи добра и зла будет опираться не на неведение, а на новое понимание сути мира. Эпоха, последующая за постмодернизмом, снявшим все запреты и выпустившим на волю стихийные инстинкты, должна будет вернуть культуру и мораль как формы ограничения. В большинстве текстов, в которых можно различить черты „нового гуманизма“, авторы ищут опору в традициях прошлого, но, прежде всего, надеются на самоорганизацию и самодвижение жизни, демонстрируя тем самым интуитивную синергетичность своего мировидения» (курсив наш – А. С.) (Стеценко, 2010, с. 91). Выделенные в последнем абзаце курсивом констатации «будет», «можно ожидать», «должна будет», «надеются» определяют нравственно желательное, в представлении авторов, направление выхода из ситуации гуманитарного хаоса