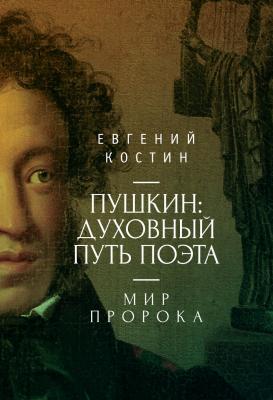Пушкин. Духовный путь поэта. Книга вторая. Мир пророка. Евгений Костин
Читать онлайн.| Название | Пушкин. Духовный путь поэта. Книга вторая. Мир пророка |
|---|---|
| Автор произведения | Евгений Костин |
| Жанр | Культурология |
| Серия | |
| Издательство | Культурология |
| Год выпуска | 2018 |
| isbn | 978-5-907030-12-1 |
В русской культуре на самом деле соотношение субъекта и мира имеет отличное от западного варианта значение. Мы не раз в предыдущих своих работах описывали данное различие с точки зрения философии, культурологии, религиозных воззрений. Но анализируя самые глубины русского языка, его семантический состав, грамматические структуры, особенности употребления словоформ, приходится определиться с самыми существенными особенностями р у с с к о й э п и с т е м ы.
Она, во-первых, почти изоморфна самому языку. Этот язык в своих феноменологических возможностях настолько мировоззренчески точно и ментально благоприятно описывал действительность, что иные возможности (метафизические), также гнездящиеся в русском языке, хотя и гораздо в меньших объемах по сравнению с языками романо-германского круга, не требовались им (языком) для порождения иных дискурсов описания мира. Философские суждения помещались внутри самых грамматических конструкций, их «примитивная» онтологичность требовала иных интеллектуальных усилий для их распознания и интерпретации, чем это свойственно другим языкам.
Изначальная а-субъектность и ориентация на целостность восприятия жизни присущи русскому языку. «Безличность» значительной части грамматических конструкций в этом языке отражают не его беспомощность в «субъективистском» духе и смысле, а известную онтологическую широту в плане иного и более продвинутого в своей феноменологической целостности подхода к действительности.
Таким образом, русская эпистема в своем описании действительности ставит перед исследователем целый ряд трудно решаемых задач. В нее саму и ее своеобразие проще уверовать, чем их понять. Она размещается на всем просторе русского языка и может порождать сложный филоосфский дискурс, где угодно и как угодно. Примеры Пушкина, Толстого, Достоевского, Платонова, Булгакова, Пастернака говорят именно об этом. Для нее (этой эпистемы) не существует некой логической матрицы с жестко очерченными краями и границами, за которые нельзя выходить. Напротив, она как раз и предполагает свободный побег за пределы прежних, уже случившихся в культуре и литературе, дискурсов. Она настоятельно требует этого, так как, исходя из своеобразия своей природы, ей больше всего претит повторяемость, дублирование.
Можно заметить, что избыточной и тотальной «агентированностью» (выражение А. Вежбицкой, говорящее о придании языковому высказыванию явно выраженной субъектности) обладает сам русский язык. Это ему принадлежат все права на высказывания и окончательное формулирование всего того, что можно обозначить как русскую ментальность, как инструмент передачи онтологической глубины и своеобразия русского способа мышления и русской души.
Рискнем обозначить это эпистемологическое