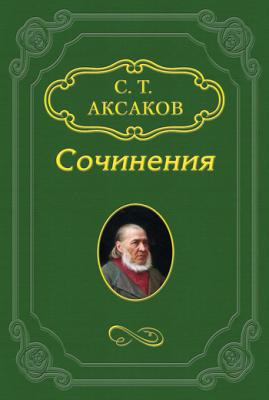Воспоминания. Сергей Аксаков
Читать онлайн.| Название | Воспоминания |
|---|---|
| Автор произведения | Сергей Аксаков |
| Жанр | Русская классика |
| Серия | Семейная хроника |
| Издательство | Русская классика |
| Год выпуска | 1856 |
| isbn |
от которых иногда надобно было останавливаться в какой-нибудь деревушке, ждать суток по двое, когда затихнет снежный ураган… Страшно вспомнить! Но мы приехали, наконец, в мое милое Аксаково, и все было забыто. Я начал опять вести свою блаженную жизнь подле моей матери; опять начал читать ей вслух мои любимые книжки: «Детское чтение для сердца и разума» и даже «Ипокрену, или Утехи любословия»[5], конечно не в первый раз, но всегда с новым удовольствием; опять начал декламировать стихи из трагедии Сумарокова, в которых я особенно любил представлять вестников, для чего подпоясывался широким кушаком и втыкал под него, вместо меча, подоконную подставку; опять начал играть с моей сестрой, которую с младенчества любил горячо, и с маленьким братом, валяясь с ними на полу, устланному для теплоты в два ряда калмыцкими, белыми как снег кошмами; опять начал учить читать свою сестрицу: она училась сначала как-то тупо и лениво, да и я, разумеется, не умел приняться за это дело, хотя очень горячо им занимался. Я очень помню, что никак не мог растолковать моей шестилетней ученице, как складывать целые слова. Я приходил в отчаяние, садился на скамеечке в угол и принимался плакать. На вопрос же матери, о чем я плачу, я отвечал: «Сестрица ничего не понимает…» Опять начал я спать с своей кошкой, которая так ко мне была привязана, что ходила за мной везде, как собачонка; опять принялся ловить птичек силками, крыть их лучком и сажать в небольшую горницу, превращенную таким образом в обширный садок; опять начал любоваться своими голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали без меня в подпечках по разным дворовым избам; опять начал смотреть, как охотники травят сорок и голубей и кормят ястребов, пущенных в зиму. Недоставало дня, чтобы насладиться всеми этими благами! Зима прошла, и наступила весна; все зазеленело и расцвело, открылось множество новых живейших наслаждений: светлые воды реки, мельница, пруд, грачовая роща и остров, окруженный со всех сторон старым и новым Бугурусланом, обсаженный тенистыми липами и березами, куда бегал я по нескольку раз в день, сам не зная зачем; я стоял там неподвижно, как очарованный, с сильно бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием… Всего же сильнее увлекала меня удочка, и я, под надзором дядьки моего Ефрема Евсеича, с самозабвением предался охоте удить рыбу, которой много водилось в прозрачном и омутистом Бугуруслане, протекавшем под самыми окнами деревенской спальни, прирубленной сбоку к старому дому покойным дедушкой для того, чтобы у его невестки была отдельная своя горница. Под самым окном, наклонясь над водой, росла развесистая береза; один толстый ее сучок выгибался у ствола, как кресло, и я особенно любил сидеть на нем с сестрой… Теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарилась преждевременно и свалилась набок, но все еще живет и зеленеет. Новый хозяин посадил подле нее новое дерево…
О, где ты, волшебный мир, Шехеразада человеческой жизни, с которым часто так неблагосклонно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарование