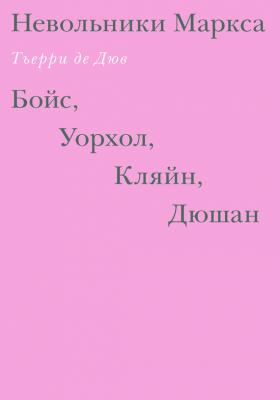Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан. Тьерри де Дюв
Читать онлайн.| Название | Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан |
|---|---|
| Автор произведения | Тьерри де Дюв |
| Жанр | Философия |
| Серия | |
| Издательство | Философия |
| Год выпуска | 1990 |
| isbn | 978-5-91103-274-6 |
Маркс называет эту универсальную способность производства ценности рабочей силой, а Бойс – креативностью. Разумеется, он не первым дал ей это имя. Скорее наоборот, он был последним, кто называл ее так с убежденностью. Искусство Бойса, его высказывания, его позиция и, главное, его двуликий образ мученика и утописта складываются в лебединую песню креативности, величайшего из модернистских мифов. Стоя, как он сам говорил, на пороге «конца модерна», Бойс и в самом деле был его провожатым, но постмодерн, чьи двери он надеялся открыть, грозил мраком смерти. Ибо главным качеством этого трагически-оптимистического Януса была патетика: оба его лица смотрели назад, за опускавшийся им занавес модерна. Иначе и быть не могло, ведь, проповедуя креативность, Бойс звал к тому же самому, что без конца обещал, на что без конца надеялся, уповал – как на свою грядущую эмансипацию, освобождение – модернизм. «Каждый человек – художник»: так говорил уже Рембо, так думал уже Новалис. Вновь провозглашали этот лозунг, писали его на стенах в Париже, в Калифорнии, под боком у Бойса в Дюссельдорфе студенты 1968-го. И всегда, со времен немецких романтиков, он означал: «Власть – воображению!» Реальностью, по крайней мере в этом смысле, он так и не стал, и тем не менее во всех выражениях воли к эмансипации и желания преодолеть отчуждение, какие только имели место в XIX и XX веках, неизменно читается: каждый человек – художник, однако актуализировать этот потенциал не под силу массам, подверженным угнетению, отчуждению и эксплуатации, и только те немногие, кого по глупому недоразумению называют профессиональными художниками, понимают, что их призвание
Здесь и далее мы варьируем перевод термина «valeur», одного из центральных для этой книги, передавая его либо как «ценность», либо как «стоимость» в зависимости от близости рассуждения автора к общегуманитарной (чаще всего эстетической) или к экономической (чаще всего марксистской) теории. Нужно, однако, иметь в виду, что, вопреки существенной разнице между «ценностью» и «стоимостью» в русском языке, в контексте данной книги (и многих других, касающихся эстетики и экономики) «valeur» (как и