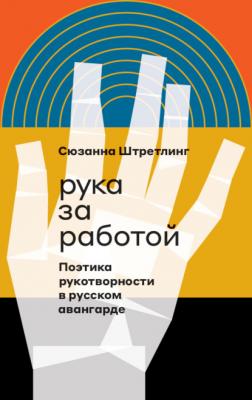Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде. Сюзанна Штретлинг
Читать онлайн.| Название | Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде |
|---|---|
| Автор произведения | Сюзанна Штретлинг |
| Жанр | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |
| Серия | Интеллектуальная история |
| Издательство | Зарубежная прикладная и научно-популярная литература |
| Год выпуска | 2017 |
| isbn | 978-5-4448-2042-1 |
На подобном сближении руки и слова базируется не только риторическое искусство декламации или язык жестов. Помимо этого, оно служит основой для перформативного словоупотребления, в котором слово и действие есть одно и то же. Также это сближение манифестирует себя в дейктической функции языка, с которой Карл Бюлер связывал возможность вербальной трансляции пространств восприятия и опыта[22]. Все эти акты говорят об одном и том же: не только рука способна сопровождать, а то и подменять говорение, но и язык нередко служит своеобразным продолжением руки, а подчас и перенимает ее роль, связанную с конструированием пространств действия. Так язык, перевоплощаясь в руку, преодолевает «чистую» и в этом качестве нередко кажущуюся пустой риторичность слова. С концептуальной конъюнкцией слова и поступка связано, стало быть, нечто большее, чем просто расширение радиуса действия. Речь здесь идет о достижении нового медиального измерения языкового действия, где знаки приобретают действенность в режиме реального, а manus loquens становится manus agens. Этот акциональный модус говорения, который в языкознании рассматривается лишь на примере перформативов и идеально-типическим воплощением которого с точки зрения конструктивистской поэтики Сергея Третьякова является фигура писателя, непосредственно участвующего в строительстве новой жизни, выходит далеко за пределы классических речевых актов вроде обещания, заключения брака, присяги или присвоения имени. По сути, здесь идет речь о таком режиме употребления языка, который посредством руки превращает слова в продолжение тела.
Наряду с операциональным и риторическим измерениями руки следует принять во внимание также ее феноменальную функцию в структуре восприятия и в процессе чувственного познания. В истории органов чувств глаз почти всегда оказывался в привилегированном положении (например, через метафорическое наделение его благородным статусом oculus spiritualis), тогда как «пролетарской» руке отводилась лишь служебная роль. Противоположная тенденция прослеживается в характерной для истории науки дискурсивной репрезентации руки как органа познания. В рамках этой традиции проявления мануального и осязательного рационализируются как метафоры мышления (вспомним здесь хотя бы о стертой метафоре постижения как «схватывания»), а сама рука концептуализируется как чувственное орудие интеллекта. Еще Гердер, этот проповедник тактилизма, выводит привилегированный статус руки из эпистемической функции осязания, так как «офтальмит, наделенный тысячью глаз, но лишенный осязающей руки, остался бы навеки в пещере Платона
См.: