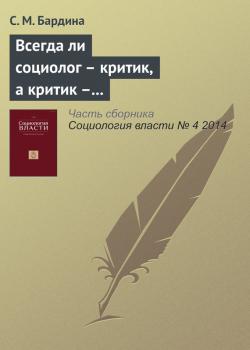Социология
Различные книги в жанре СоциологияФормирование космической мифологии как фактора развития научных исследований космоса в СССР и России
Миф о космосе неразрывно связан как с политическими факторами, так и динамикой научного знания. В таком понимании миф не является продуктом доцивилизационной формы мышления, но формой познания мира, в котором преднаучные идеи гибридизируются с научным и повседневным представлениями. Миф о космосе на протяжении минувшего столетия претерпевал значительные изменения, происходившие вместе с трансформациями общественно-политической, экономической ситуации и научного знания. Представления о космосе в конце XIX – начале XX века были крайне мифологизированы. В результате внеземное пространство представлялось пространством утопии, которая до середины ХХ века была основным источником популярных образов космоса. Технологический прорыв, развитие космической программы придало этим образам более рациональный характер.
От социологического детерминизма к классовому идеалу. Советская социология искусства 1920-х годов
В постсоветском искусствознании термин «вульгарная социология» регулярно используется в отношении любой советской социологии искусства. Вульгарной, т. е. редуцирующей объект анализа в идеологических целях, называется всякая попытка связать поле искусства с общественными отношениями. В результате советские а их внутренние различия игнорируются. Эта статья направлена на то, чтобы, во-первых, прояснить игнорируемую разнородность течений в советской социологии искусства 1920-х. Во-вторых, продемонстрировать, что, внеся историко-теоретическое различие в слитное поле, где оказались смешаны противоборствующие стороны и неравноценные институциональные позиции, мы можем иначе помыслить дискурсивный перелом между 1920-ми и 1930-ми, который является одной из самых проблемных точек истории советской науки об искусстве.
Всегда ли социолог – критик, а критик – социолог? Концептуализация исследовательской критики в витгенштейнианской теории
Критическая социология возникает как жест размежевания c традиционной теорией. В ее основании лежит отказ от классической аксиоматики, прежде всего от представления о социальном порядке как о данном, а также признание активной роли социолога по отношению к предмету исследования. Убеждение в непреложности существующего порядка определяло роль и функции классической теории. В этой модели социальная наука – часть сложившейся системы разделения труда; у социолога есть свое место в этой системе, и он не задается вопросом о собственной позиции. Так описывает эту ситуацию Хоркхаймер: «Традиционная теория могла принимать как данность множество вещей: свою позитивную роль в функционировании общества, общепризнанно странное и косвенное отношение к удовлетворению общих нужд, участие в процессе самообновления. Наука не задавалась вопросом обо всех этих неочевидных вещах, <…> но они были проблематизированы в критической мысли» [Horkheimer, 1972, p. 217]. В традиционной модели человек должен был принимать существующие условия как данные и стремиться следовать принятым требованиям. Критическая социология поставила под сомнение непреложность этих правил, предложив проект описания человека в ситуации социального конфликта. В результате через призму конфликта стала осмысляться позиция самого социального теоретика.
Социологическое исследование политического мышления в ситуациях территориального планирования
Работа К. Мангейма «Идеология и утопия» написана в соответствии с методологией, изложенной в книге: у исследователя должна быть собственная позиция в изучаемой жизненной ситуации. Мангейм – не отстраненный исследователь. Он выстраивает онтологию тполитики, которая должна заменить идеологию и утопию. Первые строки книги заставляют вспомнить 11-й тезис К. Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». К. Мангейм выдвигает альтернативный тезис: от исследования философами своего собственного философского мышления нужно переходить к исследованию мышления совершенно другого типа – к мышлению, с помощью которого «мы принимаем самые важные для нас решения, пытаемся понимать и направлять нашу социальную и политическую судьбу». Маркс противопоставляет мышление (объяснение мира) и действие (изменение мира). Мангейм утверждает обратное: именно мышление изменяет мир, но не философское, а политическое. Изменение мира начинается с объяснения мира. «Нужно исследовать мышление не в том виде, как оно представлено в учебниках логики, а как оно действительно функционирует в качестве орудия коллективного действия в общественной жизни и в политике». Политику Мангейм трактует расширительно, выстраивая оппозицию управление / политика. Управление – это область, где мы можем парадигматически постигнуть повседневную государственную жизнь. Где «решение по каждому данному случаю принимается в соответствии с заранее установленными предписаниями, речь идет не о политике, а о той области общественной жизни, где явления выступают в своем застывшем, сформированном виде… Политическая же деятельность, напротив, занимается государством и обществом постольку, поскольку они еще находятся в процессе становления». Таким образом, политическими являются все ситуации принятия решений в общественной и государственной сфере, для которых нет готовых предписаний, шаблонов, прототипов. В этой же трактовке термин «политика» и его производные используется в данной статье.
К вопросу о социологической рефлексии: утопии и симметрия
«Фактически трое исследователей будут вынуждены вести наиболее долгие и сложные переговоры именно с гребешками. Как в сказке, существует множество враждебных сил, пытающихся помешать реализации проекта исследователей и увести личинки с правильного пути, прежде чем они будут захвачены», – пишет в 1986 г. М. Каллон о взаимодействии морских гребешков и рыбаков в заливе Сен-Бриё [Callon, 1986]1. Интуиция, на которой основывается автор статьи, заключается в том, чтобы представить морских гребешков (а также многих других «не человеческих» персонажей) в качестве действующих субъектов. Эта интуиция, столь ярко выраженная Каллоном, лежит в основе многих современных теоретических направлений, известных в основном под ярлыком STS (исследования науки и технологий), и является краеугольным камнем ANT (акторно-сетевой теории). С подачи Каллона она получила название принципа обобщенной симметрии. Суть этого принципа можно изложить в одной фразе: уравнивание людей и не-человеческих агентов в производстве действия. Концептуализация материальных объектов как акторов, предпринимаемая рядом социологов в 1980–90-е, бросает вызов классической теории социального действия. Теперь социальными субъектами становятся двери и велосипеды, а работа на ноутбуке рассматривается как социальное взаимодействие.
Архитектура утопического воображения: попытка концептуализации
Социологическое мышление многим обязано утопическому воображению. Этот тезис – весьма спорный и нуждающийся в защите – повторяется так давно и часто [Liebersohn, 1988; Levitas, 1979; Plath, 1971] что, кажется, сам становится частью социологического мышления. Социология привычно легитимирует себя через указание на собственные истоки, и утопическая литература Нового времени (равно как и антиутопическая литература ХХ века) – не последний из достойных ресурсов легитимации. Проблема лишь в том, что, становясь ресурсом самообоснования социологической дисциплины, утопия утрачивает то, что составляет ее отличительную когнитивную особенность как стиля воображения и представления мира; по сути, перестает быть утопией.
Метафоры исторического повествования и ритуальная проработка прошлого в постколониальном контексте. Рецензия на книгу: Эткинд А. (2013) Внутренняя колонизация, М.: НЛО
Главную идею рецензируемой книги можно определить следующим образом: Россия создается процессами самоколонизации и самопожертвования, формирующими российскую идентичность с особой двойственной субъектностью суверена и подданного, жертвы и захватчика, колонии и метрополии. Иными словами, важнейшая проблема, с которой работает А. Эткинд, – это природа России как империи, которая одновременно является и метрополией, и колонией. В центре книги становление гигантского, но слабо освоенного пространства страны. Его собирание связано с колониальным пушным промыслом и отношениями с аборигенами, что потребовало создания особой властной и экономической структуры (явление, во многом аналогичное нефтяному проклятию современной России). В книге описываются многообразные секты, течения и формы духовных поисков в империи как один из источников будущей революции; иностранные колонисты как модель и источник российской имперской машины; «бремя бритого человека» как аналог расового конструирования господствующего слоя и фейерверки как средство представления имперской власти, а также русская классическая литература как механизм конструирования колониального субъекта и канализации жертвенного насилия.
От Археологии периферии к Археологии смыслов. Археология периферии (2013). Сборник статей, М.: Strelka Institute
Одним из самых масштабных российских исследовательских проектов в области изучения городов является междисциплинарный сборник «Археология периферии» [Левинсон, 2013; Ревзин, Тарновецкая, Чубукова, 2013а; Богоров, Новиков, Серова, 2013], выпущенный к ежегодному Московскому урбанистическому форуму. Базовую позицию авторов можно сформулировать следующим образом: Москва – город, который развивался за счет экстенсивной однотипной застройки вне Садового кольца. Поэтому то, что сейчас называется Москвой, скорее, следует обозначить как периферию Москвы, фиксируя факт невнимания чиновников и горожан к этой территории. Исходя из данной интуиции, участники «Археологии» анализировали эти «градосоставляющие» (но ни в коем случае не «градообразующие») пространства и их потенциал развития.
Растущая пустота большого города: Нильс Кристи, автор «Разделения труда» и «Самоубийства». Рецензия на книгу: Кристи Н. (2014) Плотность общества, СПб.: Алетейя
Нильс Кристи, криминалист и социолог преступности из Университета Осло, хорошо известен в России специалистам, занимающимся проблемами преступлений, правосудия и тюрем. Большинство его главных работ переведены на русский язык. Теперь издано относительно раннее (1975 г.) сочинение Кристи, в котором он предлагает более широкий взгляд на общество, его устройство и происходящие с ним изменения. Работа выглядит как манифест, обращение ко всем норвежцам, обеспокоенным проблемой преступности, но может быть прочитана и как текст скорее академический, продолжение классических дискуссий о природе современного общества. Чисто теоретическое прочтение мне кажется не менее важным. Идея, что «преступность напрямую связана с общественными условиями. Именно их и надо менять», сама по себе давно стала общим местом, кого‑то вдохновляющим, кого‑то нет. Проблема, как и 100–200 лет назад, с объясняющей частью: каков характер этой связи и где те ключевые звенья, на которые можно повлиять.
Любимый район: к вопросу о привязанности к городу
В статье рассматривается проблема смысловой пустоты пространства Москвы. Авторы проблематизируют базовое противопоставление центр – периферия. Через анализ указанной оппозиции проводится реконструкция пространственно-сетевой организации смыслов, которые горожане вкладывают в рассказ о любимых местах столицы. Методологически город рассматривается в перспективе, предложенной Джоном Ло: в качестве поточного объекта, который конституируется устойчивым смысловым ядром и подвижными элементами. Выбранный метод требует от исследователей искать стабильные проявления города в евклидовом и неевклидовом пространствах. Для этого авторы выявляют изменчивые связи между городским субъектом и местами, к которым он привязан. На базе этих связей аналитически выделяются линейные и двумерные структуры – пути и районы. В заключении делается вывод о смысловой морфологии Москвы.