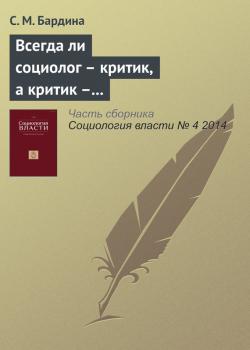Журнал «Социология власти» 2014 № 4
Скачать книги из серии Журнал «Социология власти» 2014 № 4Экономическая футурология. Рецензия: Ж. Аттали Краткая история будущего. СПб.: Питер, 2014
Молодой еврейский юноша из Алжира переезжает в Париж и решает избрать карьеру чиновника, стараясь при этом не порывать с главным, как ему кажется, делом его жизни – музыкой. Он пишет песни для популярной певицы Барбары, одновременно защищая диссертацию по экономике. Карьера в госорганах складывается успешно, он знакомится с будущим президентом Франсуа Миттераном, а в свободное время публикует трактат по философии музыки [Attali, 1977] и дирижирует университетским оркестром Гренобля. Миттеран приглашает молодого экономиста на должность советника, продвигает на пост первого президента Европейского банка реконструкции и развития, и тот становится членом Бильдербергского клуба. Параллельно финансист, музыкант и политик обнаруживает таланты философа и литератора. Пишет книги о каннибальской природе современной медицины, построенной на отчуждении человека от собственного тела [Attali, 1979], роман экзистенциалистского толка [Аттали, 1993] и визионерскую работу «Линии горизонта» [Attali, 1990] о том, как технические объекты изменили нашу цивилизацию.
Остров «Англия» как утопический проект социальной антропологии. Рецензия на книгу: Дж. Барнс. Англия, Англия. М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012
В романе английского писателя Джулиана Барнса «Англия, Англия» описывается утопическое корпоративное образование – гибрид музея и туристического парка. Транснациональная корпорация «Питко» во главе с одиозным предпринимателем сэром Джеком Питменом приобретает остров Уайт и превращает его сначала в аттракцион, а затем в альтернативную Англию. «Питко» создает в миниатюре страну, обладающую основными признаками английскости, исходя из исследований общественного мнения. Выражение «Англия, Англия» – адрес утопии: «Адм. обл. – Англия, страна – Англия» [Барнс, 2012, с. 247]. Вес аттракциону придает перебравшаяся на Уайт английская монархия. Постепенно остров из чисто экономического проекта превращается в независимое государство, интерес мирового сообщества смещается с большого острова на маленький, и старая добрая Англия приходит в упадок. Главный герой романа Марта Кокрейн – женщина средних лет, которая пытается найти счастье на фоне описываемых событий. Кульминация произведения – Марта руководит проектом. После провала и изгнания героиня отправляется доживать свой век в старую Англию. Книга состоит из трех неравных частей. В первой части «Англия» (England) в качестве пролога описываются детские воспоминания Марты, во второй части «Англия, Англия» (England, England) рассказывается собственно история утопического проекта, а третья «Ингленд» (Anglia) – эпилог, где описывается жизнь людей как «возвращение к корням» в старой Англии.
Антиутопия «жуткого города». Рецензия на книгу: C. Маккуайр. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство / Пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Strelka Press, 2014
Благодаря Фрейду в литературе хорошо описан феномен «жуткого » [Фрейд, 1995, с. 265]. Жуть – это ощущение, которое появляется, когда что-то до боли знакомое вдруг открывается с неизвестной стороны – предстает в облике чего то зловещего и непонятного. Как если бы вы протянули руку, чтобы погладить свою кошку, и вдруг поняли, что это не ваша кошка (да и не кошка вовсе). Фрейд обратил внимание на этимологию «жуткого» в немецком языке (unheimlich, дословно «недомашнее»). Австралийский исследователь Скотт Маккуайр распространил фрейдовскую теорию жути на современные города, которые уже не являются тем, чем кажутся, и которые стремительно перестают быть домом для своих жителей.
О силе понятий. Рецензия на книгу: Бикбов А.Т. Грамматика порядка: историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: ИД ВШЭ, 2014
Книга Александра Бикбова – результат многолетних изысканий в области институциональных и смысловых структур (пост)советского интеллектуального пространства, начало которым положено в кандидатской диссертации, защищенной в 2003 г. Как и в многочисленных предыдущих публикациях, часть которых в переработанном виде вошла в рецензируемый труд, теоретико-методологические установки автора находятся под определяющим влиянием концепции П. Бурдье. Однако в данной монографии бурдьерианский инструментарий используется в необычной для него обстановке исторической социологии. При этом концептуальный контекст исторической социологии как самостоятельной дисциплины (Ч. Тилли, Т. Скочпол, М. Манн и др.) остается вне внимания автора. Книга состоит из методологического введения, трех основных разделов и написанного в свободной форме послесловия, посвященного проблематике академического расизма. Справедливо отмечая неоднородность советского и постсоветского интеллектуального опыта, автор осознанно воспроизводит эту неоднородность в структуре работы, последовательно переходя от перипетий истории понятия «средний класс» в промежутке от 1950-х до 2010-х годов к истории обращения понятий «гуманизм», «личность», «наука», «прогресс» в специфических советских условиях и, наконец, к еще более эзотеричной истории советской и постсоветской академической социологии.
Парадоксы аутоиммунитета. Предисловие к переводу Эда Коэна
Однажды вечером в конце декабря 1882 г. русский физиолог Илья Ильич Мечников открыл биологический иммунитет. Ученый пронзил прозрачную личинку морской звезды шипом розы, оставил на ночь, а наутро обнаружил активность подвижных клеток в месте поражения. Клетки он назвал фагоцитами, явление – фагоцитозом, а организму приписал способность защищать себя от внешних воздействий. Декабрьский вечер можно условно считать датой рождения научной дисциплины иммунологии, условно потому, что эта дата, судя по всему, не единственная. Кафедры иммунологии и университетские курсы появляются не раньше 1930-х [Pradeu, 2012, p. 18–19], а термин иммунная система – не раньше 1960-х [Moulin, 1989, p. 221]. Такие слова и выражения, как «иммунитет», «иммунная система», «аутоиммунитет», проникают в повседневный язык только в конце 1980-х, не в последнюю очередь благодаря СМИ [Martin, 1994]. Сегодня иммунология определяет дискурс, поднимающий вопросы, что такое тело, здоровье и болезнь, жизнь и смерть [Haraway, 1991, p. 203–205; Cohen, 2009, p. 2–3].
Формирование космической мифологии как фактора развития научных исследований космоса в СССР и России
Миф о космосе неразрывно связан как с политическими факторами, так и динамикой научного знания. В таком понимании миф не является продуктом доцивилизационной формы мышления, но формой познания мира, в котором преднаучные идеи гибридизируются с научным и повседневным представлениями. Миф о космосе на протяжении минувшего столетия претерпевал значительные изменения, происходившие вместе с трансформациями общественно-политической, экономической ситуации и научного знания. Представления о космосе в конце XIX – начале XX века были крайне мифологизированы. В результате внеземное пространство представлялось пространством утопии, которая до середины ХХ века была основным источником популярных образов космоса. Технологический прорыв, развитие космической программы придало этим образам более рациональный характер.
Новые медиа: переписывание или проектирование города? Кейс Foursquare и проекта «Районные блоги»
До середины 1990-х исследователи города рассматривали масс-медиа как фактор разрушения публичных пространств, социальных связей и исчезновения истории (Э. Сойя, Ж. Бодрийяр, М. Оже, Г. Дебор). В свою очередь некоторые исследователи медиа видели в новых средствах коммуникации демократический потенциал и возможность преодоления неравенства. В настоящее время виртуальное и физическое не противопоставляются друг другу, а рассматриваются как взаимодополняющие среды [Урри, 2012]. Эта идея вписывается в направление современной социальной теории, представляющей город как совокупность отношений разного рода (исследователь Ю. Бедаш называет такие концепции «постметафизическими») и критикующей классический дуализм языка и пространства [Вахштайн, 2014]. Тем не менее подходы к конкретным кейсам в области urban communication studies зачастую сохраняют логику оценочных оппозиций. Влияние медиа рассматривается либо как освобождающее, либо как закрепощающее. Цель нашего исследования – оспорить эти противоречащие друг другу взгляды и найти альтернативный, более продуктивный подход к отношениям города и медиа.
От социологического детерминизма к классовому идеалу. Советская социология искусства 1920-х годов
В постсоветском искусствознании термин «вульгарная социология» регулярно используется в отношении любой советской социологии искусства. Вульгарной, т. е. редуцирующей объект анализа в идеологических целях, называется всякая попытка связать поле искусства с общественными отношениями. В результате советские а их внутренние различия игнорируются. Эта статья направлена на то, чтобы, во-первых, прояснить игнорируемую разнородность течений в советской социологии искусства 1920-х. Во-вторых, продемонстрировать, что, внеся историко-теоретическое различие в слитное поле, где оказались смешаны противоборствующие стороны и неравноценные институциональные позиции, мы можем иначе помыслить дискурсивный перелом между 1920-ми и 1930-ми, который является одной из самых проблемных точек истории советской науки об искусстве.
«Памяти павших будьте достойны»: практики построения личности в утопических сообществах
Разным обществам присуще разное представление о ребенке и детстве. Отличие этих представлений в обществах традиционных и индустриальных связано с наличием в индустриальных обществах воспитательных технологий – комплекса практик и ритуалов, которые призваны сформировать будущего гражданина. Такие практики в отличие от практик воспитания в обществе традиционном носят систематический характер и воспринимаются именно в таком качестве. Это подразумевает появление профессии, связанной исключительно с воспитанием. В таком смысле мы не можем говорить о воспитательной технологии в русской традиционной крестьянской культуре или в культуре жителей Самоа, где воспитание детей включено в повседневную жизнь, является ее неотъемлемой частью и осуществляется всеми членами сообщества. Если же речь идет о городских индустриальных обществах XIX века, то анализировать практики воспитания в этих обществах без рассмотрения воспитательных технологий, присущих этим культурам, невозможно. Практики воспитания в таких обществах – воплощение определенной воспитательной технологии, идет ли речь, к примеру, о дисциплине в публичных школах в Великобритании XIX века или в организации скаутского движения в Америке середины века XX. Однако разные представления о ребенке и детстве свойственны не только традиционным и индустриальным культурам. В индустриальных обществах XX века эти представления также имеют свою специфику. Она отражается не только в литературе (как детской, так и взрослой), живописи, материальном мире (игрушках, одежде, структуре пространства дома и города), но и в воспитательной технологии: игры, практики и ритуалы, которые считаются наиболее подходящими для воспитания детей и подростков.
Всегда ли социолог – критик, а критик – социолог? Концептуализация исследовательской критики в витгенштейнианской теории
Критическая социология возникает как жест размежевания c традиционной теорией. В ее основании лежит отказ от классической аксиоматики, прежде всего от представления о социальном порядке как о данном, а также признание активной роли социолога по отношению к предмету исследования. Убеждение в непреложности существующего порядка определяло роль и функции классической теории. В этой модели социальная наука – часть сложившейся системы разделения труда; у социолога есть свое место в этой системе, и он не задается вопросом о собственной позиции. Так описывает эту ситуацию Хоркхаймер: «Традиционная теория могла принимать как данность множество вещей: свою позитивную роль в функционировании общества, общепризнанно странное и косвенное отношение к удовлетворению общих нужд, участие в процессе самообновления. Наука не задавалась вопросом обо всех этих неочевидных вещах, <…> но они были проблематизированы в критической мысли» [Horkheimer, 1972, p. 217]. В традиционной модели человек должен был принимать существующие условия как данные и стремиться следовать принятым требованиям. Критическая социология поставила под сомнение непреложность этих правил, предложив проект описания человека в ситуации социального конфликта. В результате через призму конфликта стала осмысляться позиция самого социального теоретика.