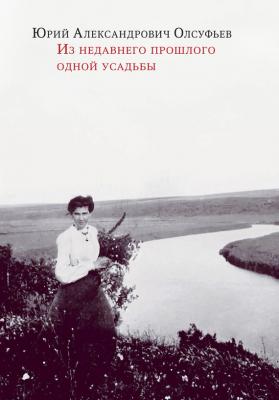с серебряным лезвием для фрукт<ов> – заботливый подарок мне моей матери; маленький разрезной деревянный ножичек, вырезанный мною как-то очень давно, в мои отроческие годы; я ехал однажды летом вечернею зарею по Гороховской дороге на своей паре «синих» арденчиков; за «Шаталиным верхом», или лощиной, где летом вдруг, бывало, ощущаешь прохладу, росла одинокая ветла; я подъехал к ней, срезал ветку и поехал дальше, вбирая в себя сладкий запах зреющей и нагретой солнцем ржи…; ножичек, сделанный из этой ветки, служил мне памятью об этом летнем вечере, об этом незначительном случае с веткой, когда я как-то теснее сблизился, породнился с природой… Наконец, среди разных безделушек, которые я уже плохо помню, был другой разрезной ножик, еще более для меня памятный, чем первый. Он разрисован был для меня Евдокией Петровной Саломон, сестрой Надежды Петровны Богоявленской, о которой я говорил раньше. Милая Евдокия Петровна приезжала к нам в Буйцы по пути в Оптину, куда она ездила к отцу Амвросию. На одной стороне ножичка была нарисована ракета tennis’a и голова Талисмана, любимой лошадки моего детства, подаренной мне моими родителями в Ялте в 86 году, когда отец мой сопровождал царскую семью в Крым и когда мы проводили там весну на даче Paio; это была моя первая верховая лошадь. Талисман прожил очень долго и оставил после себя целое потомство таких же Талисманов, из которых один служил верховой лошадкой нашего сына М<иши>. На другой стороне ножичка была изображена лодка – моя байдарка, которая составляла, можно сказать, целую эпоху в моей юности; в эту лодку, предназначенную для одного только человека, мы ухитрялись садиться с Mr. Cobb вдвоем и уплывали на ней по бесконечным извилинам Непрядвы, то выплывая на середину реки, то подплывая к берегам под нависшие ракиты или раздвигая ее острым носом водоросли и трос<т>ники. Мы брали с собою книгу, читали вслух, беседовали, изучали Писание. Бывало, летом возвращались уже в сумерки: гладь реки сливалась с берегами и все становилось призрачным, подымался туман над рекой, где-то слышался внезапный всплеск или крик запоздалой цапли, направлявшейся к лесу… То было в годы моего англоманства и англиканства.
На столе еще лежали: домашняя приходо-расходная книга, которую я вел с года нашей свадьбы; затем, помнится, небольшая серебряная пепельница работы Boucheron, подаренная мне по какому-то случаю тетушкой Марией Андреевной С<оллогуб>; длинные ножницы для бумаги еще моего отца; березовый пресс-бювар с прокладкой на крышке из полосок черного дуба, заказанный для меня С<оней>, разрезной ножик черного дерева, наконец, другая пепельница – большая медная, привезенная моему отцу П. И. Нерадовским с Дальнего Востока в Японскую войну; кроме того, на столе стояло две фотографии: моего отца в генерал-адъютантском сюртуке и фотография С<они> семнадцатилетней невестой, вставленная в кругу широкой квадратной рамки гладкой зеленой кожи с тисненым золотым узорчиком и с бронзовым ободком