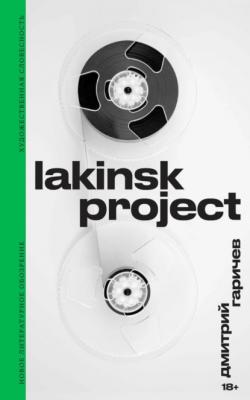Lakinsk Project. Дмитрий Гаричев
Читать онлайн.| Название | Lakinsk Project |
|---|---|
| Автор произведения | Дмитрий Гаричев |
| Жанр | |
| Серия | |
| Издательство | |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 9785444821060 |
е успел отключиться, К. вошла ко мне и сказала достаточно строго, чтобы я поменялся с ней комнатами, раз уж сам ее запугал, на что я посмеялся, но сейчас же встал, забрал свое одеяло и перебрался впотьмах на привычное место, хотя и не с самым спокойным сердцем, потому что считаю К. во всем более смелым, чем я, человеком и легко заражаюсь ее волнением, ведь если уж она чем-то обеспокоена, это значит, что я должен быть обеспокоен вдвойне, так что стоило мне улечься под потолком гостиной со сгустком фальшивой лепнины по центру, который, должно быть, и смутил как-нибудь К., как подступивший было сон прошел и я вытянулся дураком на кровати, сам присматриваясь то к потолку, то к маленьким отблескам в створках книжного шкафа напротив, в электрической тишине, пробегаемой разве что шорохом снега на крыше, ровно так, как лежал в пятнадцать лет в соседнем доме в одной комнате с умирающей бабушкой, пока мама работала в ночную, и всем слухом своим, как если бы у него были руки, держался за игрушечный свист ее дыхания, населявший невидимый воздух, умоляя его продолжаться еще и читая про себя «рыбы скользкие поют, звезды падают с луны», чтобы укачать несдающийся мозг, но лицом отвернувшись к спинке дивана: как и во всех наших квартирах, проход в другую комнату располагался посередине смежной стены, и тьма, собиравшаяся в этом месте, была невыносима, на нее было невозможно глядеть прямо, не говоря уж о том, чтобы пасти ее боковым зрением, закрыть же вовсе легкую белую дверь представлялось опасней всего, и, вспоминая все это теперь, я удивляюсь, как мне вообще удавалось заснуть в те ночи две тысячи третьего года и спать крепко, пока не возвращалась мама, после чего мы вдвоем перестилали бабушке простыню, та же следила за нами с полуиспугом-полуобидой, но уже давно не удостаивала нас ни единым словом, и только ночной ее свист, слышимый, разумеется, и днем, но лишь по ночам обрастающий смыслом, еще связывал меня с ней, а когда она наконец умерла, я несколько месяцев не решался оставаться здесь один в мамины ночные смены и уходил тогда к своей доброй тете, где спал, впрочем, плохо, но скорее от непривычки, чем от страха, рождающегося сейчас на кончиках моих пальцев и вынуждающего их набирать эти слова, семенящие и припадающие, стыдные, никакие, но способные все же удержать его где-то возле ногтей и не дать расползтись, раз уж мне больше не за что здесь ухватиться, кроме разве что старого рассуждения о том (хотя это тоже слова), что в этом же доме еще семьдесят девять квартир, а на этой улице еще шесть таких же домов с дверью посредине смежной стены, а в городе еще четыре или пять кварталов той же застройки, а в стране еще несколько тысяч таких городов, и допускать, что именно в той комнате, где сейчас нахожусь я, отворится чудовищный коридор, просто математически тщетно, но, в конце концов, весь наш опыт просмотра, чьи жемчужины сохранены в папке «жуть», научил нас, что чем внимательнее персонаж к оставляемым для него недобрым знакам, чем охотней он подозревает вмешательство тьмы в свои текущие дела (и зовет к себе парапсихолога, и вскрывает пол, и приносит богатую жертву), тем верней достается он ей, никогда не спешащей и ждущей порою годами, потому что власть ее неполна без работы с другой стороны, хотя есть, конечно, исключения, но их грубость так бессовестно очевидна, что ими вполне можно пренебречь: само собой, черному демону из Jeepers Creepers все равно, верят в него или нет, но как раз поэтому он и не может дотянуться до нас, а Кагутаба из Noroi (зачем только я называю сейчас это имя), заставляющий своих корреспондентов вязать бессознательные узлы из подручных шнуров и душить голубей на балконе, так отчаянно настоящ, что я попросил у К. в подарок футболку с его маской, желая, видимо, выказать этим дешевым приемом свое бесстрашие, но, по-хорошему говоря, японские екаи не слишком меня настигают, выражаясь забытым школьным языком, все-таки это так далеко и так мало похоже на нас, и если до конца задуматься, какая же из вероятностей на самом деле пугает меня, все окажется просто, как у женщины с кассы: что явится покойный отец или та же покойная бабушка, обещавшая, кстати, меня навещать, – ничего, пошучу, сверхъестественного, страх за триста, обиженные мертвецы, угрожающие обернуть тебя в свои гнилые пелены, натолкать земли в почищенный на ночь рот: с папой может возникнуть вдобавок кто-нибудь из советских друзей, возможно, еще с мертвым эрдельтерьером, с напевом про «бедного лемура» в разбитых зубах, попрекнуть меня тем, что я дешево продал отцовские осциллографы, а пластинки снес в мусорный контейнер, оставив лишь Гульда, которого все равно было не на чем слушать, потому что вертушки я снес туда же, – словом, даже не морок, а гнет виноватых воспоминаний, несдержанных обязательств, вроде как давно прощенных себе, но вот нет, и от мысли, что это и есть моя тьма, мне становится легко и глупо, но на деле это не освобождает, а ожесточает меня, как удар молотком по пальцам, и не это ли вынуждает копать еще новые списки на IMDb или Letterboxd, причащаться то индонезийских, то филиппинских кошмаров, среди которых, стоит отметить, нет-нет да попадаются недурные работы, уже, однако, слишком слипшиеся в моей голове для того, чтобы я мог сейчас что-то внятно пересказать, как в ноль пятом добрых полчаса пересказывал тебе наконец посмотренную с диска «четыре в одном» «Пилу», зимним вечером в незапертом школьном саду, развалясь в жарких сугробах и дыша подожженной сандаловой палочкой, принесенной тобой из каких-то гостей, не из дома же ей было взяться, под военными звездами,