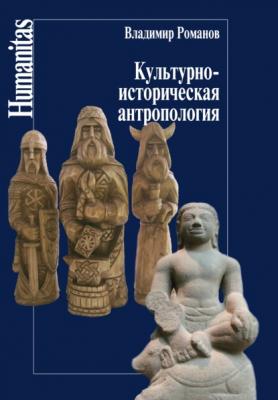Культурно-историческая антропология. В. Н. Романов
Читать онлайн.| Название | Культурно-историческая антропология |
|---|---|
| Автор произведения | В. Н. Романов |
| Жанр | Биология |
| Серия | Humanitas |
| Издательство | Биология |
| Год выпуска | 2014 |
| isbn | 978-5-98712-130-6 |
Нельзя, не противореча себе, одновременно исходить в своих теоретических построениях из того, что человек, пусть и малого совсем объема, как бы есть уже изначально (т. е. прежде того момента, как косная объективная реальность стала трансформироваться у него в одушевленную реальность окружающего его мира его же собственных возможностей) и вот только затем в него, вроде бы и имеющегося уже в наличии, помещают еще дополнительно, будто в порожнюю емкость, определенную «языковую картину», которая снабжает это пустопорожнее, но несмотря на это все же человеческое уже существо некоторой программой, навязывающей ему, наличествующему помимо мира, определенный взгляд на наличествующий помимо него мир[23].
Нельзя – если мы хотим, конечно, полнее понять реальную роль языка, не трактуя его до опыта (как это делается раз за разом объективистски ориентированными лингвистами) лишь в качестве средства межчеловеческого общения и соответственно не сводя заранее его функцию до чисто инструментальной, – полностью игнорировать те фундаментальные семиотические процессы, в которые ребенок практически вовлекается всем своим телесным существом с самого момента своего рождения и в которых наряду со словами в качестве своеобразных знаков его двигательных возможностей с самого начала задействованы также однозначно читаемые (в отличие, подчеркну еще раз, от лишенных такой однозначности природных объектов) обиходные артефакты.
Оставаясь на почве фактов, накопленных в отечественной психологии со времен фактического ее основателя Л. С. Выготского[24], здесь следует думать скорее так, что на основе постоянной и совершенно непроизвольной вовлеченности ребенка в эти сложнейшие процессы он, рождаясь, по выражению Н. А. Бернштейна, «доношенным недоноском» (и в отношении анатомических органов, и уж тем более органов функциональных, включая сюда, разумеется, и орган собственно человеческого мышления), только и может трансформироваться в существо разумное со своим конкретно определившимся и вчерне состоявшимся местоименным я, которому с течением времени предстоит все больше, так сказать, оплотняться за счет все большего числа усваиваемых далее слов и стоящих за ними эго-центрично организованных комплексов-гештальтов, сформировавшихся как значимое для ребенка смысловое целое непосредственно в его повседневно-практической жизни[25].
Вступая на предложенный выше путь рассуждений и последовательно по нему продвигаясь в заданном направлении, неизбежно приходишь к заключению, что в отличие от родовой животной самости это наше место-именное собственно человеческое Я изначально имеет место быть в двух разноплановых, но в то же время однотипных по своей морфологии и, более того, подлежащих обоюдной координации
Попытка А. Вежбицкой и ее сочувственников избежать этого явно несообразного хода мысли за счет предварительного заполнения «пустопорожней емкости» некоторым числом врожденных универсальных понятий ничем практически не отличается в решающем (с моей точки зрения) пункте от стремления критикуемых ею лингвистов трактовать вопрос об усвоении ребенком естественного языка по аналогии с вводом программы в компьютерное устройство. Обе стороны, несмотря на внешне вроде бы радикальное различие в исходных установках, в равной мере не учитывают первостепенную роль предметно-практической деятельности ребенка в очеловечивании его телесной самости. В частности, это касается и центрального понятия «я», которое (как на том совершенно справедливо настаивает польская исследовательница) действительно является понятием универсальным, но только не в силу его врожденной (как она утверждает) природы, а в силу универсальности сложнейших семиотических процессов, протекающих в вещно-оформленной искусственной среде и приводящих с необходимостью к становлению данного понятия у любого человеческого существа, на каком бы языке оно ни говорило.
Накопленных главным образом в рамках сложившегося под непосредственным его влиянием деятельностного подхода, представленного прежде всего классическими трудами А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Л.И. Божович и др. Если же говорить не о фактах, а о методологической стороне вопроса, касающегося исследования человеческой психики с деятельностной точки зрения, то здесь хотелось бы особо выделить написанную тридцать лет тому назад, но ничуть не потерявшую в своей актуальности совместную работу двух авторов:
Осмелюсь высказать в связи с этим предположение, что нижняя возрастная граница индивидуальной человеческой памяти, за которую нам дано переступать лишь в исключительно редких случаях, окрашенных особо яркими эмоциональными переживаниями, определяется тем детским возрастом, когда у ребенка уже сформировалась пусть пока и не сложная по составу, но все-таки относительно устойчивая система эго-центричных комплексов-гештальтов и соответственно, когда его местоименное я, постепенно «оплотняясь», достигло относительно устойчивого потенциального предицирования со стороны языковых знаков, отсылающих к этим смысловым комплексам гештальтам.