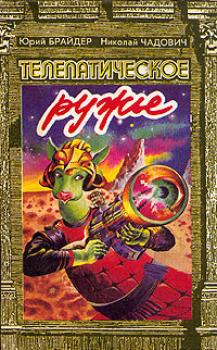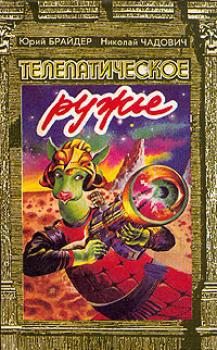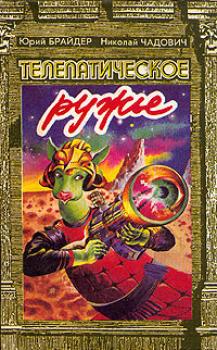MREADZ.COM - много разных книг на любой вкус
Скачивание или чтение онлайн электронных книг.Лес Ксанфы
«Едва Сергей доложил о своем прибытии, как его немедленно проводили в кабинет директора – не через приемную, где уныло дожидались своей очереди пять или шесть посетителей, а через какие-то пустые и полутемные комнаты. Директор, заложив руки за спину, стоял у окна – маленький и сгорбленный, но грозный, похожий на седого, взъерошенного коршуна…»
В горной Индии (сборник)
«…Лиспет была хорошей христианкой и, когда выросла, не отступилась от христианства, как делают многие горные девушки. Земляки ненавидели её за то, как они говорили, что она сделалась «белой женщиной» и каждый день умывалась, а жена капеллана не знала, что ей с ней делать. Нельзя заставлять мыть тарелки и блюда стройную богиню, ростом в пять футов и десять дюймов. Лиспет играла с детьми капеллана и училась в воскресной школе, перечитала все книги, какие были в доме, и с каждым днём хорошела, словно царевна в волшебных сказках. Жена капеллана говорила, что ей следует поступить няней в Симле или устроиться на какое-нибудь «порядочное» место. Но Лиспет не желала поступать в услужение. Она была счастлива и там, где жила…»
Три солдата (сборник)
«Когда вещи снова были в доме, я даже не попросил бакшиша, а, потушив фонари своей одноколки, помчался в противоположную сторону от экипажей. Вдруг я увидел валявшегося на дороге негра и соскочил с козел, чуть не наехав на него. Право, мне казалось, что в эту ночь Провидение за меня. Это был Джунги; его нос совсем расплющился; он весь онемел, окоченел. Вероятно, его скинули с козел. Мошенник скоро очнулся. „Тс!“ – сказал я ему, но он завыл…»
Самая удивительная повесть в мире (сборник)
«…Мало есть вещей на свете более приятных, чем искренность, горячность и неумеренное открытое восхищение юноши. Даже женщина в порыве слепого обожания не пойдёт по следам любимого человека, не снимет своей шляпки с того гвоздя, на который он вешает свою шляпу, и не будет пересыпать свою речь его излюбленными словами…»
Мёртвая вода
«Сначала была только боль – огромная, черная, вечная. Все его естество, казалось, целиком состояло из этой боли. Он различал десятки ее оттенков, она пульсировала в каждом нерве, в каждой клетке, она жила вместе с ним, то собираясь в один непереносимо мучительный комок, то кипятком растекаясь по всему телу. Была боль, которая будила его, вырывая из омута небытия, и была боль, которая ввергала в состояние, мало отличимое от смерти. Потом появился свет – тусклый, красный, сам по себе ничего не значащий. Время шло, свет постепенно разгорался, а боль мало-помалу стихала…»
Ад на Венере
«Грохот раздался после полуночи, когда бодрствовала только дежурная смена. Палубы и стены Компаунда задрожали. Он сдвинулся с места и медленно пополз вверх по склону, вспарывая почву на десятки метров вглубь и сминая на своем пути скалы. В переполненных жилых секциях, в коридорах, оранжереях, ангарах проснулись тысячи людей. Скользя в полной темноте по все более и более наклоняющимся поверхностям палуб, они, проклиная все на свете, пытались поудобнее устроить свои надувные матрасы и раскладушки. В вентиляционном колодце сорвался один из огромных кондиционеров и полетел вниз, давя и калеча тех, кто устроился на ночлег в прохладе воздухозаборных каналов…»
Против течения
«Было почти семь двадцать, когда Гиб, держа под мышкой пакет с завтраком, спустился в метро. Каждое утро на этой станции собирались все, кто из района Девятой кольцевой ездили на работу в Двадцать Третий закрытый сектор. Минут десять Гиб бегал по перрону, прежде чем ему удалось втиснуться в переполненный, набитый, как солдатская могила после решающего сражения, вагон…»