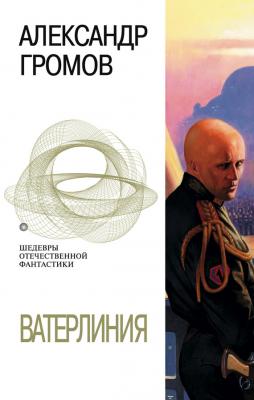животами, перхали и давились, смахивая слезы, и – шлеп, шлеп! – перли вниз, самодовольные, как тот ослик, дотянувшийся наконец до травинки; их просто распирало. Некоторых Шабан знал в лицо: все здоровенные сытые мужики, местная рабочая аристократия, мастера, десятники, герои подземных миль, прогрызатели каменных хребтов, погонщики бессловесных убегунов. «Плешь! – восторженно закричал белобрысый солист, увидев Шабана, и озабоченно пощупал свою макушку: – А у меня такой нет», – добавил он грустно и, состроив плаксивое лицо, талантливо захныкал. Новый взрыв гогота не успел достичь апогея – Шабан, прыгнув вперед, сшиб солиста косым ударом под челюсть. Не давая упасть, поймал за ворот, ударил еще, не разбирая куда, чувствуя, что злость никак не проходит, – белобрысый гулко обнял стену и, заваливаясь набок, жалко выставил защищающую ладонь, в моргающих глазах – испуг и непонимание. Схватить, вытрясти из мерзавца душу, пока остальные не опомнились, – нельзя, Шабан спиной чувствовал, что нельзя. Разворачиваясь на каблуке, подавил желание лягнуть отползающего с подвываньем белобрысого, шагнул навстречу раскормленным жвачным мордам, выдохнул-крикнул: «Ну!» К нему приближались стадом, все сразу. Распаляя себя, подходили медленно, не спеша поддергивали рукава, щерились, ласково ощупывая глазами. Один еще не отсмеялся, гогот ушел в емкое сырое чрево, и оттуда взрыкивало. Убьют, решил Шабан. Вот сейчас кинется первый, а за ним все стадо – затопчут, забьют по-мясницки и только потом начнут жалеть, что забили так быстро, без выдумки, и будут думать, что делать с трупом… Пятясь к стене, он вытащил из кобуры пистолет, обхватил ладонью ствол – увесистая штука, такая и быка свалит, если по лбу, что и требуется. «А толку? – подумал он, почувствовав лопатками стену. – Ну, оглушу одного-двоих, а дальше? Дальше видно будет, хотя скорее всего дальше уже ничего не будет видно».
Почему-то они остановились. Все разом. Не решаются? Тот, что впереди, обернулся – загривок в потных складках, красный, – о чем-то шепчется с другими в полный голос. Ага, вот оно: «Разведчик, я его знаю». – «И что?» – «Живоглот шкуру снимет…» – «А при чем здесь разведчик?» – и кто-то уже одергивал засученные рукава, кто-то, пряча глаза, отходил в сторону. Шабан все еще продолжал сжимать в руке ствол, слыша, как в груди прыгает сердце, холодное, как большая лягушка. Перед ним расступились, давая дорогу. «Извиняемся», – прогундосил тот, что шептался, и Шабан вспомнил, что видел его когда-то давно десятником в тоннеле. Он отлепил лопатки от стены и понял, что сейчас никуда не пойдет, – ноги норовили зайтись дрожью, и он почувствовал, какая это будет дрожь: не крупная, колотящая, как несколько часов назад, когда попал под ливень, и уж тем более не благородная дрожь гнева и негодования, – а мелкий, подленький, трусливый ознобчик, который никак нельзя показывать этим самодовольным животным, чтобы никому из них не хватило духу хрипеть потом: «А вот один передо мною так прямо в штаны и наклал, спроси кого хочешь…» «Пошли, ребята», – наконец