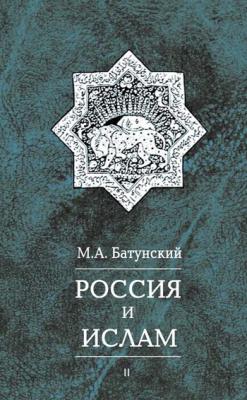Россия и ислам. Том 2. М. А. Батунский
Читать онлайн.| Название | Россия и ислам. Том 2 |
|---|---|
| Автор произведения | М. А. Батунский |
| Жанр | История |
| Серия | |
| Издательство | История |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 5-89826-106-0, 5-89826-189-3, 5-89826-188-5, 5-89826-187-7 |
В петровский и последующие периоды новой литературный герой «ориентирован на образы героев западноевропейского романа и в то же время глубоко национален»28.
Важно тут же отметить, что «образованные слои русского общества, элита, подвергавшаяся воздействию западной цивилизации, остро нуждались в переводной беллетристике. Испытывая потребность в просвещении, они всячески тянулись к Европе и видели в переводной литературе источник сведений о новой для них жизни… Южнославянское и византийское влияние, определившее литературные контакты средневековой Руси, сменились в XVIII в. отчетливо выраженным западноевропейским…»29. И именно благодаря этому же влиянию прочным атрибутом русской культуры становилось «рациональное сомнение как активная программа познавательной деятельности человека», подобное «мощному магниту, в поле которого европейская мысль развивалась на протяжении почти двух столетий» (т. е. XVII–XVIII вв. – М.Б.). В контексте поднятой нами тематики30 воцарение – тесно сопряженного с деизмом31 – «рационального сомнения» означало, конечно, такую секуляризацию общественного мнения (имеются в виду его элитарные слои), которая, с одной стороны, противостояла идущим от христианского клерикализма ярко-субъективистским интерпретациям ислама и истории стран его распространения, а с другой, создавала сильную преграду в лице скептицизма любому возможному источнику сколько-нибудь массированного вторжения в лоно российского духовного бытия традиционно-восточных образований, с неизбежным для них архаическим мифо-мистическим антуражем.
Так проводилась культурная дистанция между Россией и – нехристианским, в первую очередь, – Востоком. Она, впрочем, не означала ни идеи полного отождествления с Западом, ни возможности раз и навсегда отвернуться от Азии32, вследствие и абсолютного характера христианского гуманизма, и даже несших еще более широкое, чуждое конфессиональных рамок нравственное обоснование «человеколюбия без берегов», охотно воспринятых целым рядом русских интеллектуалов воззрений Декарта, Лейбница33 и других западных мыслителей, давших русской интеллектуальной элите весомый категориально-понятийный аппарат для непрерывного познания и преобразования (в противоположность «статичному Востоку») реального бытия.
Таким образом, расширение мировоззренческого горизонта русской культуры34 означало одновременно и более интенсивный поиск ею природы собственной сущности, что всего четче отразилось в формулах типа «Мы – и не Запад и не Азия». Интересно, что зачастую это «Мы» означало не только русских, но и всех прочих восточных (православных) славян35.
Продолжим сюжеты, связанные с «идеей исторического развития в русской культуре конца XVIII – начала XIX столетия», как озаглавил свою весьма интересную статью Ю.М. Лотман36. Не вдаваясь в его типологию различных типов тогдашнего исторического мышления, остановимся лишь на Карамзине,