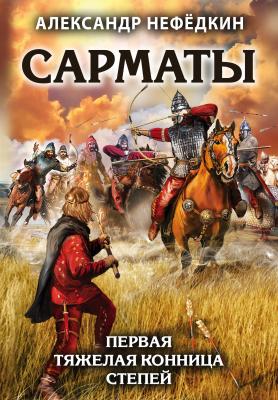Сарматы. Первая тяжелая конница степей. Александр Нефедкин
Читать онлайн.| Название | Сарматы. Первая тяжелая конница степей |
|---|---|
| Автор произведения | Александр Нефедкин |
| Жанр | Энциклопедии |
| Серия | Лучшие воины в истории |
| Издательство | Энциклопедии |
| Год выпуска | 2018 |
| isbn | 978-5-04-093284-9 |
Сарматы, как и другие народы древности, имели массу предрассудков, которые, по их мнению, говорили о воле высших сил. Достаточно вспомнить случай из эпохи Маркоманнских войн Марка Аврелия (173 г.): Мелитинский легион, состоящий из христиан, опустился перед сражением с германцами и их союзниками-сарматами на колени для молитвы, а затем в жару пошел ливень, варвары же, не приняв боя, бежали, приняв грозу за проявление воли богов. За это легион получил название Молниеносного (Euseb. Hist. eccl., V, 5, 1–6; ср.: Dio Cass., LXXI, 9; SHA, IV, 24, 4; Oros. Hist., VII, 15, 8–9). Такова христианская версия этого события, объясняющая неожиданное природное явление. Согласно же языческой версии, передаваемой Дионом Кассием (LXXI, 8; 10), эта битва была против квадов, которые окружили римлян, испытывавших сильную жажду. Тогда египетский маг Арнуфис, сопровождавший Марка Аврелия, вызвал с помощью богов дождь, который пролился на римлян, а на врагов в ходе боя обрушился град и молнии. По альтернативной версии, эти природные явления вызвал сам император (SHA, IV, 24, 4). В романе сирийца Ямвлиха «Вавилониака» (вторая половина II в.) сборщик податей Сорех приобрел влияние в наемном «аланском войске» путем нахождения клада, место которого ему якобы сообщили боги, и другими хитростями (Iamb., 21).
Для принятия решений использовали мантику. В частности, Аммиан (XXXI, 2, 24) упоминает гадания аланов по пучкам прямых ивовых прутьев, расскладывая которые гадающие получали ответы на вопросы. Подобный способ гадания характерен и для других иранских народов, в частности скифов (Hdt., IV, 67). Вероятно, существовала связь между этой кочевой мантикой и барсманом – пучком веток у жрецов зороастрийцев, связывавшим материальный и духовный миры[243]. Обычно считается, исходя из погребального инвентаря, что женщины сарматов выполняли магические жреческие функции[244].
В бой сарматы, как и другие народы, шли с рассветом (АИА 2: 24; ср.: Мровели, с. 35). Однако необязательно данную традицию связывать с их иранскими религиозными представлениями (ср.: Xen. An., III, 4, 35; Plut. Anton., 47; Hdn., IV, 15, 1; 4; Procop. Bel. Pers., I, 13, 19), это можно объяснить проще: ночью никого не было видно, ни своих, ни врагов. В древности же электричества не было и ложились обычно рано, рано же и вставали – обычно с рассветом.
Аланы почитали за счастье быть убитым оружием в бою (Amm., XXXI, 2, 23; ср.: XXIII, 6, 43). С этим же представлением связано и презрение к умершим естественной смертью, как к «не попавшим в рай»[245]. Не случайно же в позднесарматскую эпоху травматизм возрос до 60 % от общего числа погребенных мужчин[246]. Стремлением попасть в потусторонние чертоги объясняется и культовое убийство сыном отца по взаимному согласию, существовавшее, в частности, у языгов (Flac. Argon., VI, 122–127). Подобные представления были свойственны не только иранским народам: скифам, массагетам и прочим (Fortunatian. Ars rhetorica, I, 14; Jul. Victor. Ars
Дряхлов 1996: 68; Lebedynsky 2001: 65.
Modi 1922: 278–280; Kanga 1988.
Медведев 2009: 8; contra: Яценко 2007; 2015: 10.
Amm., XXXI, 2, 22: iudicatur ibi beatus, qui in proelio profuderit animam, senescentes enim et fortuitis mortibus mundo digressos ut degeneres et ignavos; ср.: Strab., XI, 5, 6; Bachrach 1973: 22.
Балабанова 2003: 71, 73; Медведев 2009: 9.