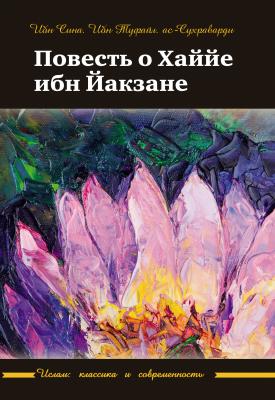Повесть о Хаййе ибн Йакзане. Ибн Сина (Авиценна)
Читать онлайн.| Название | Повесть о Хаййе ибн Йакзане |
|---|---|
| Автор произведения | Ибн Сина (Авиценна) |
| Жанр | Философия |
| Серия | Ислам: классика и современность |
| Издательство | Философия |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 978-5-906859-12-9 |
Терзаюсь мыслью, тягостной до боли,
Что знания людей двояки, но не боле:
В чем истина – постигнуть невозможно,
А проку нет, коль знаешь то, что ложно[126].
Потом на смену этим пришло еще одно поколение ученых, которые оказались более изощренными в умозрительном знании и ближе их продвинулись к истине. И среди них не было мужа с умом более проницательным, более здравомыслящего и с более верными взглядами на вещи, чем Ибн ас-Саиг, да вот только мирские дела захватили этого мужа, так, что смерть похитила его прежде, чем успели обнаружиться сокровища его познаний и смогли раскрыться тайны его мудрости[127]. Но и написанное им осталось в большей части своей незавершенным, не доведенным до конца, как, например, обстоит дело с его «Книгой о душе», «Жизнеустройством соединившегося» и тем, что было написано им по логике и физике; завершенные произведения же его представляют собой небольшие книги и наскоро составленные трактаты, в этом он и сам признается без обиняков, говоря, что лишь с трудом великим и изрядно помаявшись можно понять из сказанного мысль, которую он намеревался объяснить в «Трактате о Соединении», что порядок изложения у него отнюдь не всегда совершенный и что, будь у него время, он бы те места охотно подверг переработке. Вот в таком-то виде и дошли до нас познания сего мужа, с коим лично нам встречаться не приходилось. А что до современников его, которых характеризуют как людей, не овладевших так ученостью, как он, то ничего из написанного ими нам на глаза не попадалось.
Пришедшие же им на смену наши современники либо только еще растут[128], либо остановились в росте, так и не достигнув совершенства, либо принадлежат к тем, о которых нам ничего не известно.
Что же касается дошедших до нас сочинений Абу Насра, то в большинстве своем они относятся к логике, а те из них, что посвящены философии, изобилуют сомнительными местами. Так, в книге «Добродетельная религия» он доказывает, что души злые после смерти обречены на нескончаемые муки, в «Политике» же он заявляет, что таковые исчезают и обращаются в ничто, а бытие посмертное предуготовлено лишь душам добродетельным и совершенным[129], тогда как в комментарии к книге «Этика»[130], говоря о том, как обстоит дело с человеческим счастьем, характеризует оное как то, что приходит только в здешней, посюсторонней жизни, и продолжает это рассуждение словами, смысл которых сводится к тому, что все прочее, о чем говорят, касаясь данного предмета, – бредни и суеверия старух. Тем самым он отнимал у всех надежду на милосердие Всевышнего, ставил в один ряд и добродетельных, и злых, ибо уделом всего считал обращение в небытие, а это невыразимо грубая ошибка, оплошность неописуемая, мы не говорим уже об откровенных заявлениях его касательно недоверия, которое он питает
Стихи араб. поэта из Толедо ал-Ваккаша (ум. в 1095).
«Смерть похитила его
«…либо только еще растут
О совершенной душе, стремящейся к подлинному счастью, т. е. к философскому познанию сущего, в «Политике» ал-Фараби говорится, что таковая «не погибает с гибелью материи, так как для своих способностей и существования она более не нуждается в материи», поскольку метафизические понятия, хотя у их истоков и находятся ощущения, абстрагированы от всего чувственного, материального. Иная доля ожидает души людей, помыслы которых не поднимаются выше чувственного: их души «не достигают того совершенства, посредством которого они отрешаются от материи, так что они гибнут, как только гибнет материя» (См.:
Речь идет о не дошедшем до нас комментарии ал-Фараби к