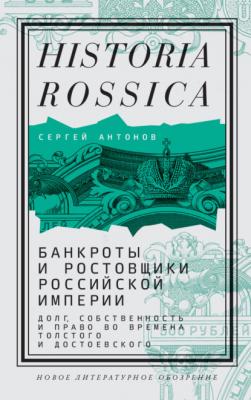Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского. Сергей Антонов
Читать онлайн.| Название | Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского |
|---|---|
| Автор произведения | Сергей Антонов |
| Жанр | История |
| Серия | Historia Rossica |
| Издательство | История |
| Год выпуска | 2016 |
| isbn | 978-5-4448-2004-9 |
В эмпирическом плане важно помнить о многочисленных случаях несостоятельности верховенства закона в основных западных правовых системах, включая английскую, немецкую и американскую, несмотря на то что многие должностные лица в этих странах выбирались гражданами, чьи политические права были защищены лучше, чем в России. Список этих случаев весьма велик, включая санкционированный судом повсеместный режим расизма в США, национальное, классовое и гендерное угнетение в викторианской Британии, а также всем известную историю политических притеснений в Германии. Как отмечала применительно к более раннему периоду российской истории Нэнси Шилдс Коллманн, «на низовом уровне „рациональные“ государства Европы не выглядят такими уж рациональными, а приписываемое Московии „самодержавие“ не выглядит таким уж самодержавным»[54]. В то же время исторические и эмпирически обоснованные концепции права более пригодны для сопоставления конкретных практик в России и других странах – таких, как наказание за преднамеренное банкротство и преследование ростовщичества или права собственности у женщин, – с целью выявления общих тенденций, которые Россия в каких-то случаях разделяла, а в каких-то – не разделяла с другими правовыми системами. Короче говоря, исходить из идеализированного образа английского или американского права и обнаруживать, что Россия была не в состоянии ему соответствовать, не более полезно, чем, скажем, утверждать, что православные русские были не настоящими христианами, поскольку в своей жизни они не следовали какому-либо «западному» образцу христианина.
Несмотря на отсутствие работ, авторы которых систематически и интенсивно занимались бы применением правовых идей Вебера к России, в концептуальном плане специалисты по социологии права затруднили осуществление такого проекта, утверждая, что сам Вебер, невзирая на его симпатию к «формально-юридической» рациональности, неоднозначно относился к ее возможным преимуществам и осознавал ее неосуществимость на практике. Можно сказать, что веберовская теория права находила в западных правовых системах «непреодолимые трения между процессом и сущностью – между рациональностью по форме и по сути», а вовсе не триумфальное шествие первой[55].
Однако, невзирая на эти проблемы со стандартным определением верховенства закона и дихотомией рационального и деспотического начал, я отнюдь не собираюсь утверждать, что право было не более чем орудием социального и политического угнетения – как в дореформенной России, так и где-либо еще. Многие историки и правоведы подходят
Приложение идей Вебера о политике и обществе к Российской империи, не сопровождающееся, однако, подробным анализом права и законности, см. в:
См., например: