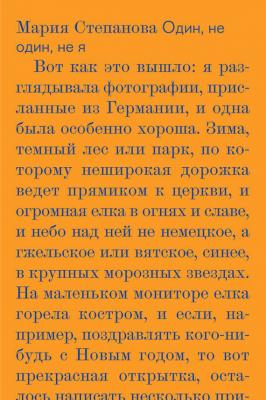Один, не один, не я. Мария Степанова
Читать онлайн.| Название | Один, не один, не я |
|---|---|
| Автор произведения | Мария Степанова |
| Жанр | Эссе |
| Серия | |
| Издательство | Эссе |
| Год выпуска | 2014 |
| isbn | 978-5-98379-182-4 |
Если двигаться дальше в предложенной логике, выводя за скобки как частность указания на телесный характер этих отчужденных от автора и неразрывно связанных с ним конструкций-посредников, можно говорить о чем-то большем – и очень важном. Конец девяностых дал поэзии новую рабочую схему, которой грех не воспользоваться – дополнительные инстанции письма, равные, но не тождественные пишущему, которые можно назвать фиктивными фигурами авторства. Такие фигуры представляют собой что-то вроде сорокинских клонов (Пушкин-7, Парщиков-19): модели авторских практик, точек зрения, которые могли бы и долженствовали быть – но только действующие в ограниченном времени-пространстве одного цикла или книги стихов, пытаясь исчерпать там все свои возможности. Звучит вполне механистично – но так выглядит свобода, которую обещает тексту я-не-я, промежуточная инстанция, обладающая суверенной территорией и существующая по законам, не полностью тождественным тем, что признает над собой автор.
(Что отделяет эти фантомные голоса, практики-времянки, от векового опыта литературной мистификации с ее масками и усами? Может быть то, что они и не пытаются притвориться неодноразовыми. Легкие рабочие конструкции не скрывают своей утилитарности и ситуативности, того, что поставлены они, как палатка или штатив, на короткий срок, для выполнения единичной задачи. Можно сказать, что их существование – что-то вроде демонстрации возможностей, намного превышающих умения и притязания их физического автора; они что-то вроде фрагмента, указывающего на существование целого.)
Но что в этой ситуации остается от автора? Соглашаясь с теми, кто видит этическую разницу между «пишу как хочу» и «пишу как могу» (и по понятным причинам выбирает второе), я подозреваю, что «не могу иначе» относится не столько и не только к самому тексту, его звуковой и смысловой одежке, но и к тому, о чем и зачем он существует. Какие бы задачи не решал поэт на поверхности собственного письма, где есть место иллюзии удач и ошибок, откуда последовательность текстов видится как воля (набор осознанных решений), а не как доля (последовательность, заданная законами, очень похожими на законы грамматики), в главном он все равно обречен на себя. Как вокруг взрывной воронки, все его силы стянуты к границам огромной проблемы, с которой он пытается иметь дело (ответом на которую, собственно, является все, что он делает), – собраны воедино, как намотанная на кулак ткань. Перед ее лицом собственный голос имеет не больше и не меньше прав, чем голоса соседей, заместителей, свидетелей, живых или кажущихся живыми. Контуры этой проблемы он бесконечно нащупывает и теребит; переходит в погоне за решением с места на место, говорит о ней долго и тихо, громко и коротко – и никакое