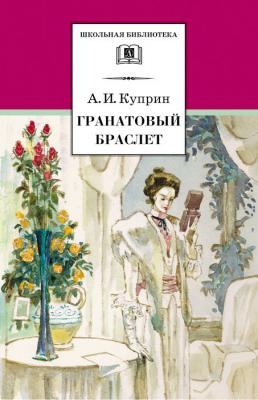Гранатовый браслет (сборник). Александр Иванович Куприн
Читать онлайн.| Название | Гранатовый браслет (сборник) |
|---|---|
| Автор произведения | Александр Иванович Куприн |
| Жанр | Русская классика |
| Серия | Школьная библиотека (Детская литература) |
| Издательство | Русская классика |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 978-5-08-005518-8 |
«Почем знать? Если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, – весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать… над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума».
Восхищаясь самобытностью Олеси («В ней не было ничего похожего на местных „дивчат“, лица которых… носят такое однообразное, испуганное выражение»), герой инстинктивно пытается сломать ее независимость, оригинальность, подвести под общий ранжир, как того требует полицейская, узаконенная нравственность, прописи которой ему читает урядник: «…чтобы все ходили в храм Божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия…»
Эта страсть к «развивательству» обнаруживает в «тихом и смирном» герое Куприна какой-то инстинкт деспотизма, отсутствие подлинного уважения к своеобразной духовной жизни «полесской ведьмы». Угадывается здесь и большее – та драма индивидуализма, которую, каждый по-своему, пережили и Печорин Лермонтова, и Оленин Толстого. Иван Тимофеевич оказался тоже подвержен этой застарелой духовной болезни. Ему не хватает тонкости, душевного такта, бережного и чуткого отношения к другому, что одно в состоянии оберечь от беды любимое существо. Это лишь оттеняет врожденное благородство простой крестьянской девушки. Не проклятие обидчику, а прощальное «прости» любимому человеку – вот ее последнее слово. «Высказано» оно поэтично: нитка дешевых «коралловых» бус, нарочно повешенных «на угол оконной рамы» покинутой хаты, – вот что остается на память Ивану Тимофеевичу от Олеси и «ее нежной, великодушной любви».
Финал «Олеси», ее последние строки, – одно из характерных проявлений того свойства купринского таланта, которое современники (и в том числе Бунин) высоко ценили, – «теплоты ко всему живущему».
Действительно, многоохватна эта «теплота» Куприна, которая вмещает любовь к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам – к жизни во всех ее проявлениях. Но в центре его раздумий – всегда жизнь человека, взятая в единстве со всем живущим на земле.
В повести «Поединок» (1905) одинокий и несчастный Назанский, желая удержать Ромашова от бессмысленного поединка, убеждает порвать с чуждой ему средой «бурбонов»: «Главное – не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она веселая, занятная, чу́дная штука – эта жизнь», «Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет».
Сам Назанский – больной, сломленный человек. И в его исступленной любви к жизни, которую он готов благословлять всегда и во всем, а в особенности в едкой неприязни к «телячьей нежности к ближнему» («любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец»), – цинизм и отчаяние человека без будущего. Но несомненно, в его патетике отозвалось