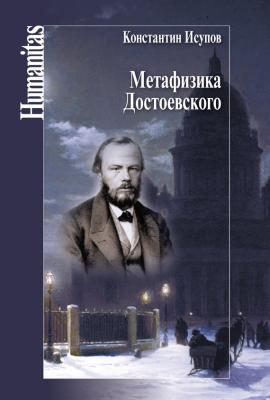Метафизика Достоевского. Константин Исупов
Читать онлайн.| Название | Метафизика Достоевского |
|---|---|
| Автор произведения | Константин Исупов |
| Жанр | Философия |
| Серия | Humanitas |
| Издательство | Философия |
| Год выпуска | 2016 |
| isbn | 978-5-98712-549-6 |
В рассуждениях старшего современника С.С. Аверинцева метафизика Достоевского артикулирована в вольных терминах трансфизической феноменологии и авторской концепции экзистенциального прорыва бытия усилием интуиции. Г.С. Померанц показывает «три уровня» (опять – три!) «приближения к вечности, или к глубине, или к Богу. Первый – это невозможность жить в мире разума без прикосновения к сверхразумному. <…> Кьеркегор не мог жить в мире гегелевского разума. Иов не мог жить в мире богословского разума. Лев Шестов не мог жить ни в мире ученых, ни в мире философов, ни в мире богословов. <…> Второй уровень – неожиданное взрывное чувство сверхразумной реальности (указаны чань-буддизм; индуизм (путь бхакти), суфизм; созерцательные практики йоги и исихазма. – К.И.). Третий уровень – устойчивый контекст со сверхразумным, божественным, парение в духе. Без всяких путей. Без всяких вопросов. <…> В русской литературе достигнут только первый и второй уровень»[20].
В Г.С. Померанце говорит поколение пятидесятых, которое училось у Достоевского выскальзыванию из (социального) бытия в пользу метафизических путей приближения к нему и обретения его сущности в новой онтологической конструкции.
Промежуточной фигурой в процессе ученического обретения новой оптики можно назвать Ж. Батая (1897–1962), выпустившего в 1943 (!) году книгу с названием, как если бы ее писал Homo interior Августиновой «Исповеди» – «Внутренний опыт»; в ответ на милый совет друга-писателя, в котором явно прозвучала «цитата» из Достоевского («Бланшо спросил меня: почему не вести внутренний опыт так, словно я был последним человеком?»), Батай ответил репликами, которые могли бы стать эпиграфом для всей философии диалога, инициированной пятью-шестью одинокими мыслителями века: «Внутренний опыт <…> нужен для другого»; субъект есть сознание Другого[21].
Ж. Батаю свойственны апофатические игры с готовыми концепциями (Декарта, Гегеля, Ницше), и даже главный свой труд он поименовал, в пику Фоме Аквинскому и его «Суммам» (читай: всей католической традиции системного философствования), «La Somme atheologique» (1972). На фоне изрядно надоевших лозунгов о «смерти Бога», «смерти Автора», «смерти Героя», «смерти Другого», «смерти текста», «смерти классики», «смерти читателя», а также «конца истории» и прочих «концов» Ж. Батай, с его по-французски элегантной манерой инкорпорировать философский дискурс в стилистику художественных и публицистических жанров, показывает, сколь ненадежными выглядят висячие мосты и лествицы метафизических переходов от имманентного «я» к трансцендентным ценностям Другого: «В опыте объект предстает драматичным наваждением самоутраты субъекта. Это рожденный субъектом образ. Прежде всего, субъект хочет идти навстречу себе подобному. Ввергнув себя во внутренний опыт, он ищет субъект, который был бы подобен ему по углубленности во внутренний мир. Более того, субъект, опыт которого изначально и сам по себе драматичен (самоутрата), испытывает