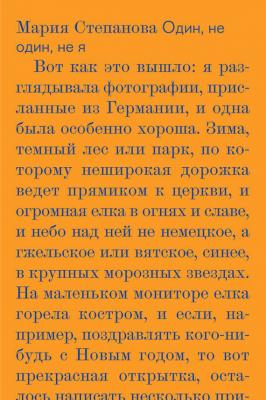Один, не один, не я. Мария Степанова
Читать онлайн.| Название | Один, не один, не я |
|---|---|
| Автор произведения | Мария Степанова |
| Жанр | Эссе |
| Серия | |
| Издательство | Эссе |
| Год выпуска | 2014 |
| isbn | 978-5-98379-182-4 |
Вот как это вышло: я разглядывала фотографии, присланные из Германии, и одна была особенно хороша. Зима, темный лес или парк, по которому неширокая дорожка ведет прямиком к церкви, и огромная елка в огнях и славе, и небо над ней не немецкое, а гжельское или вятское, синее, в крупных морозных звездах. На маленьком мониторе елка горела костром, и если, например, поздравлять кого-нибудь с Новым годом, то вот прекрасная открытка, осталось написать несколько приличествующих случаю слов.
Открытка («хороших новостей в новом году») ушла по нескольким адресам, и от кого-то я даже получила ответы, а месяц спустя снова открыла файл с фотографией. И – да, темный лес или парк с холмиками в снегу, кустами, церковью, елкой, ну конечно же это было кладбище. Не понимаю, как удалось не заметить с первого раза.
Но кладбище легко не различить, оно и так всегда в голове, любой мыслью, если довести ее до точки, утыкаешься именно в это: могилы без имен, полуприкрытые снегом, и в конце дороги елка (все яблоки, все золотые шары), а немного погодя – храм, все-там-будем. В акафисте об упокоении усопших про это говорится так: «Мир общая могила священная есть, на всяком бо месте прах отец и братий наших».
Нам почему-то не все равно, сколько места достанется каждому. Старинные шуточки про шесть футов английской земли («а как роста он высокого, набавят еще один») легко перекладываются на язык Ваганькова. Величина последнего земного надела словно что-то значит – и чем больше пустого пространства вокруг, тем шире, вольней, блаженнее лежать. Неясный смысл этого загробного землевладения (телу ведь равно повсюду истлевать) как бы предполагает слияние с пейзажем – и поглощение, не требующее свидетелей. Впрочем, земная доля мертвых на глазах съеживается, и вряд ли дело только в перенаселенности и тесноте.
У В. Г. Зебальда есть эссе, которое называется «Campo Santo». Оно напечатано посмертно, в тонкой книжке, где три или четыре текста образуют пунктирный, заведомо неполный контур путешествия по Корсике. Странное от них ощущение: словно автор на глазах приближается к свету в конце туннеля, о котором мы знаем из популярной литературы. Рассказчик и рассказ по ходу движения истончаются, выедаются быстрым пламенем; сама речь и ее предметы – мундир Наполеона, школьная ограда, деревенский похоронный обряд – в равной мере ослепительны и прозрачны. Автор переходит, буквы задерживаются. Неудивительно, что главный текст этой книги – о кладбище.
Зебальд жалуется там, что на Корсике больше нет привидений. По тому, как он их описывает (низкорослые, с размытыми чертами, косо прислоненные к действительности, обидчивые, как дети, и мстительные, как галки), жалеть особо не о чем. Но то, что местные мертвецы перестали получать положенные (на подоконник или порог) питье и пищу, не пугают односельчан на ночных дорогах, не заходят ни к родным, ни к чужим, печалит его больше, чем можно бы ожидать. Его странное сочувствие этому неприятному народцу, его очевидное недовольство тем, что вместо собственной земли им приходится лежать в тесноте общественного кладбища, и тем, что мертвые и живые существуют уже не на равных правах, кажется подозрительно интимным – словно у автора здесь свой интерес или своя мука. Так, в общем, и есть; это эссе написано со стороны и на стороне покойников. Тревожная настоятельность, которую придает тексту смерть самого Зебальда – нелепая гибель в автокатастрофе, – заставляет читать его как курсив, как срочную телеграмму с края света, из пограничной зоны между тем и этим. Беда в том, что, если верить смыслу сообщения, разницы между тем и этим нет.
Мертвые значат все меньше, говорит Зебальд. Мы убираем их с дороги с предельной скоростью и великим тщанием. Они отнимают у нас все меньше времени, занимают все меньше места: кремация, урны, ячейки в бетонной стене. «Кто помнит о них, кто будет о них вспоминать?» Он описывает кладбища, будто это тюрьмы или резервации (созданные, чтобы изолировать, вытеснить, придавить к земле гранитом и мрамором, оторвать от своих, окружить чужими). Он оплакивает вещи, которые умели жить десятилетиями (мы еще помним, как это было: отцовское пальто, годами служившее сыну, бабушкин наперсток, дедова готовальня, мамина память – кольцо или кресло) и внезапно оказались заменимыми. Отсутствие воли к сохранению, охватившее нас, можно описать и по-другому, как военную операцию или социальную реформу: ее задача – упразднение памяти.
Действительно, прошлое так широко, что, видимо, хочется сузить, сделать так, чтобы всего этого было поменьше: только главное, только лучшее. Мысль о том, что у истории (или культуры) есть обязательная и произвольная программа, top 5 или 10 (как в затопленном Китеже над водой видны только колокольни), не нова. Новое – непривычная усталость от того, что было до нас. Новые веяния – околофоменковские теории, сжимающие пространство и время до точки, образовательные реформы (с непременным снижением доли гуманитарных дисциплин) – все это подчинено простодушному желанию сделать проще. Чтобы глубина колодца уменьшилась хоть на треть, чтобы не так много уроков задавали, чтобы гудящий объем пройденного живого можно было скатать в компактный тугой шар (или раскатать в прозрачный и тонкий блин). Говоря словами Зебальда, «мы выбрасываем за борт балласт, забываем все, что могли бы помнить». Под