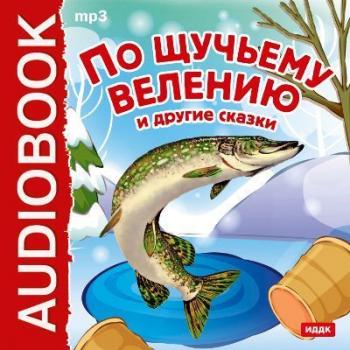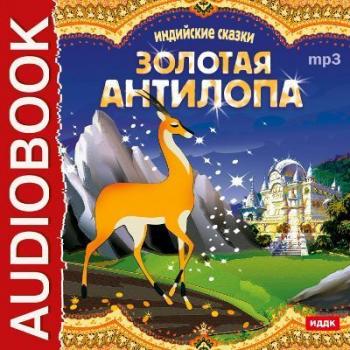Владимир Одоевский
Список книг автора Владимир ОдоевскийГородок в табакерке (сборник)
В книгу входят знаменитые в свое время «Сказки дедушки Иринея», в которых рассказывается о жизни детей в XIX веке. Для среднего школьного возраста.
Мороз Иванович. Необойденный дом. Аудиоспектакли
Диск включает аудиоспектакли по сказкам В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» и «Необойденный дом». Эти удивительные рождественские истории будут интересны и детям, и их родителям. От автора – народный артист России Василий Бочкарев Мороз Иванович – народный артист России Дмитрий Назаров Рукодельница – артистка Татьяна Матюхова Ленивица – артистка Ольга Шорохова Нянюшка, Яблочки – заслуженная артистка России Зинаида Андреева Пирожок, петушок – народный артист России Александр Леньков В аудиоспектакле «Необойденный дом» роли исполняли: От автора – народный артист России Василий Бочкарев Старушка – заслуженная артистка России Галина Новожилова Старик – народный артист СССР Лев Дуров Парень – заслуженный артист России Николай Денисов Малой – артист Дмитрий Филимонов Сын – артист Олег Семисынов Дочь – заслуженная артистка России Зинаида Андреева Настоятель – народный артист России Дмитрий Назаров Над аудиоспектаклями работали: Автор сценариев и режиссер – Виктор Трухан Композитор – Шандор Каллош Звукорежиссер – Андрей Коновалов Ассистент режиссера – Михаил Розенберг Редактор – Жанна Переляева
По щучьему велению и другие сказки
Издание содержит знаменитые и любимые русские народные сказки «Марья Моревна», «По щучьему велению» и сказку «Мороз Иванович», написанную выдающимся русским писателем, автором многих знаменитых сказок, любимых маленькими читателями нашей страны, таких как «Городок в табакерке» – князем Владимиром Феодоровичем Одоевским (1803-1669).
Городок в табакерке
«Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его – оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимется. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше…»
Индийские сказки. «Золотая антилопа», «О четырех глухих»
Издание содержит две сказки: любимую детскую сказку «Золотая антилопа» и индийскую сказку «О четырёх глухих», написанную выдающимся русским писателем и философом, князем Владимиром Федоровичем Одоевским (1803 или 1804 – 1869). Золотая антилопа. Индийская народная сказка. Это волшебная история маленького мальчика, золотой антилопы и жадного раджи. В ролях: Георгий Куликов, Юлия Юльская, Антонида Гунченко, Анатолий Баранцев, Федор Димант, Александр Денисов, Андрей Кремлев, Константин Ерофеев, Софья Гальперина Запись 1958 года. Князь Владимир Федорович Одоевский. О четырёх глухих. Индийская сказка. Исполняет Петр Коршунков.
Элементы народные
«Много толковали о судьбе, о цели человечества, о прогрессе и проч. т. п. Но все сии толкования производились с точки зрения народа, среди которого родился писатель…»
Смерть и жизнь
«Пламень кипел по жилам моим, огненные розы сжигали сердце, глава тихо клонилась… Вдруг порывисто звукнули струны, потухли розы...»
Себастиян Бах
Себастьян Бах был любимейшим композитором Одоевского с ранней юности и до конца дней. Он был его «учебною книгой» и постоянной радостью и наслаждением. Под датой 12 декабря 1864 г. он записывает в своем дневнике о впечатлении от сюиты Баха: «Точно ходишь в галерее, наполненной Гольбейном и А. Дюрером» (Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935, с. 188).
Русские письма
«Время фантазии прошло; дорого заплатили мы ей за нашу к ней доверенность; чей ум, упрямый до бестолковости и нелепости, не признает, что другую картину представляют положительные знания, спасающие нас от болезней, предохраняющие наши здания от громовых ударов, сближающие расстояния, утишающие при операциях, — словом, образовавшие всю нашу настоящую жизнь? Каким путем положительная наука дошла до знания ближайших результатов? Путем опытов и наблюдений. Вот истинное поприще деятельности человека. Знать первый его долг; действовать сообразно знанию — второй долг его».
Психологические заметки
«Есть слова, которые мы часто употребляем, не обращая внимания на их глубокое значение; мы говорим: «Это противно внутреннему чувству, этим возмущается человечество, этому сердце отказывается верить». Какое чувство породило эти выражения? Оно не есть следствие рассуждений, не есть следствие воспитания, – одним словом, не есть следствие разума. Вы видите казнь преступника; разум убеждает вас, что она необходима, но было бы противно внутреннему чувству не скорбеть о нем. Разум уверяет вас, что вы должны умерщвлять своего противника в пылу сражения, – но спросите самого храброго воина, что ощущает он, проходя по полю битвы после сражения? Ведь эти раны были необходимы, эти страдания суть необходимое следствие правой битвы, отчего же его сердце трепещет, отчего дрожь проходит по его телу, отчего его человечество возмущается? Отчего иногда, как самое сердце ваше поражено какой-либо страстью, и рассудок уверяет вас, что вы можете предаться ей безопасно, но еще какое-то внутреннее чувство вас удерживает?»